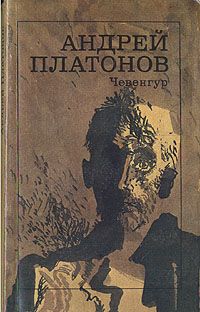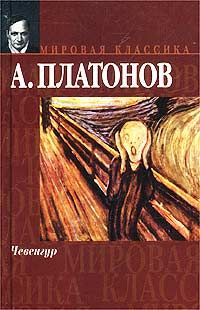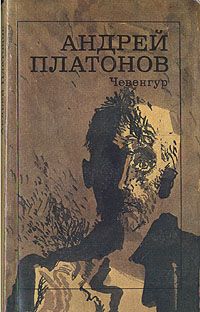Выбравшись из поселка, Дванов хотел побежать, но упал. Он забыл про свою рану на ноге, а оттуда все время сочилась кровь и густая влага; в отверстие раны уходила сила тела и сознания, и Дванову хотелось дремать. Теперь он понял свою слабость, освежил рану водой из лужи, перевернул повязку навзничь и бережно пошел дальше. Впереди его наставал новый, лучший день; свет с востока сегодня походил на вспугнутую стаю белых птиц, мчавшихся по небу с кипящей скоростью в смутную высоту.
Направо от дороги Дванова, на размытом оползшем кургане, лежал деревенский погост. Верно стояли бедные кресты, обветшалые от действия ветра и вод. Они напоминали живым, бредущим мимо крестов, что мертвые прожили зря и хотят воскреснуть. Дванов поднял крестам свою руку, чтобы они передали его сочувствие мертвым в могилы.
* * *
Никита сидел в кухне Волошинской школы и ел тело курицы, а Копенкин и другие боевые люди спали на полу. Раньше всех проснулась Соня; она подошла к двери и позвала Дванова. Но Никита ей ответил, что Дванов тут и не ночевал, он, наверно, отправился вперед по своему делу новой жизни, раз он коммунист. Тогда Соня босиком вошла в помещение сторожа Петра.
– Что ж вы лежите и спите тут, – сказала она, – а Саши нет!
Копенкин открыл сначала один глаз, а второй у него открылся, когда он уже был на ногах и в шапке.
– Петруша, – обратился он, – ты вари свою воду на всех, а я отбуду на полдня!.. Что ж вы ночью не сказали мне, товарищ? – упрекнул Соню Копенкин. – Человек он молодой: свободная вещь – погаснет в полях, и рана есть на нем. Идет он где-нибудь сейчас, и ветер выбивает у него слезы из глаз на лицо...
Копенкин пошел на двор к своему коню. Конь обладал грузной комплекцией и легче способен возить бревна, чем человека. Привыкнув к хозяину и гражданской войне, конь питался молодыми плетнями, соломой крыш и был доволен малым. Однако, чтобы достаточно наесться, конь съедал по осьмушке делянки молодого леса, а запивал небольшим прудом в степи. Копенкин уважал свою лошадь и ценил ее третьим разрядом: Роза Люксембург, Революция и затем конь.
– Здорово, Пролетарская Сила! – приветствовал Копенкин сопевшего от перенасыщения грубым кормом коня. – Поедем на могилу Розы!
Копенкин надеялся и верил, что все дела и дороги его жизни неминуемо ведут к могиле Розы Люксембург. Эта надежда согревала его сердце и вызывала необходимость ежедневных революционных подвигов. Каждое утро Копенкин приказывал коню ехать на могилу Розы, и лошадь так привыкла к слову «Роза», что признавала его за понукание вперед. После звуков «Розы» конь сразу начинал шевелить ногами, будь тут хоть топь, хоть чаща, хоть пучина снежных сугробов.
– Роза-Роза! – время от времени бормотал в пути Копенкин – и конь напрягался толстым телом.
– Роза! – вздыхал Копенкин и завидовал облакам, утекающим в сторону Германии: они пройдут над могилой Розы и над землей, которую она топтала своими башмаками. Для Копенкина все направления дорог и ветров шли в Германию, а если и не шли, то все равно окружат землю и попадут на родину Розы.
Если дорога была длинна и не встречался враг, Копенкин волновался глубже и сердечней.
Горячая тоска сосредоточенно скоплялась в нем, и не случался подвиг, чтобы утолить одинокое тело Копенкина.
– Роза! – жалобно вскрикивал Копенкин, пугая коня, и плакал в пустых местах крупными, бессчетными слезами, которые потом сами просыхали.
Пролетарская Сила уставала, обыкновенно, не от дороги, а от тяжести своего веса. Конь вырос в луговой долине реки Битюга и капал иногда смачной слюной от воспоминания сладкого разнотравия своей родины.
– Опять жевать захотел? – замечал с седла Копенкин. – На будущий год пущу тебя в бурьян на месяц на побывку, а потом поедем сразу на могилу...
Лошадь чувствовала благодарность и с усердием вдавливала попутную траву в ее земную основу. Копенкин особо не направлял коня, если дорога неожиданно расходилась надвое. Пролетарская Сила самостоятельно предпочитала одну дорогу другой и всегда выходила туда, где нуждались в вооруженной руке Копенкина. Копенкин же действовал без плана и маршрута, а наугад и на волю коня; он считал общую жизнь умней своей головы.
Бандит Грошиков долго охотился за Копенкиным и никак не мог встретиться с ним – именно потому, что Копенкин сам не знал, куда он пойдет, а Грошиков тем более.
Проехав верст пять от Волошина, Копенкин добрался до хутора в пять дворов. Он оголил саблю и ее концом по очереди постучал во все хаты.
Из хат выскакивали безумные бабы, давно приготовившиеся преставиться смерти.
– Чего тебе, родимый: у нас белые ушли, а красные не таятся!
– Выходи на улицу всем семейством – и сейчас же! – густо командовал Копенкин.
Вышли в конце концов семь баб и два старика, – детей они не вывели, а мужей схоронили по закутам.
Копенкин осмотрел народ и приказал:
– Разойдись по домам! Займись мирным трудом!
Дванова, определенно, не было на этом хуторе.
– Едем поближе к Розе, Пролетарская Сила, – снова обратился к коню Копенкин. Пролетарская Сила начала осиливать почву дальше.
– Роза! – уговаривал свою душу Копенкин и подозрительно оглядывал какой-нибудь голый куст: так же ли он тоскует по Розе. Если не так, Копенкин подправлял к нему коня и ссекал куст саблей: если Роза тебе не нужна, то для иного не существуй – нужнее Розы ничего нет.
В шапке Копенкина был зашит плакат с изображением Розы Люксембург. На плакате она нарисована красками так красиво, что любой женщине с ней не сравняться. Копенкин верил в точность плаката и, чтобы не растрогаться, боялся его расшивать.
До вечера ехал Копенкин по пустым местам и озирал впадины – не спит ли там уморившийся Дванов. Но везде было тихое безлюдие. Под вечер Копенкин достиг длинного села под названием Малое и начал подворно проверять население, ища Дванова среди сельских семейств. На конце села наступила ночь; тогда Копенкин съехал в овраг и прекратил шаг Пролетарской Силы. И оба – человек и конь – умолкли в покое на всю ночь.
Утром Копенкин дал Пролетарской Силе время наесться и снова отправился на ней, куда ему нужно было. Дорога шла по песчаным наносам, но Копенкин долго не останавливал коня.
От трудности движения пот на Пролетарской Силе выступил пузырями. Это случилось в полдень, на околице малодворной деревни. Копенкин въехал в ту деревню и назначил коню передышку.
По лопухам лезла женщина в сытой шубке и в полушалке.
– Ты кто? – остановил ее Копенкин.
– Я-то? Да я повитуха.
– Разве здесь рожаются люди?
Повитуха привыкла к общительности и любила разговаривать с мужчинами.
– Да то будто нет! Мужик-то с войны валом навалился, а бабам страсть наступила...
– Ты вот что, баба: нынче сюда один малый без шапки прискакал – жена у него никак не разродится, – он тебя, должно, ищет, а ты пробежика по хатам да поспроси, он здесь где-нибудь. Потом мне придешь скажешь! Слыхала?!
– Худощавенький такой? В сатинетовой рубашке? – узнавала повитуха.
Копенкин вспоминал-вспоминал и не мог сказать. Все люди для него имели лишь два лица: свои и чужие. Свои имели глаза голубые, а чужие – чаще всего черные и карие, офицерские и бандитские; дальше Копенкин не вглядывался.
– Он! – согласился Копенкин. – В сатинетовой рубашке и в штанах.
– Дак я тебе сейчас его приведу – он у Феклуши сидит, она ему картошки варила...
– Веди его ко мне, баба, я тебе пролетарское спасибо скажу! – проговорил Копенкин и погладил Пролетарскую Силу. Лошадь стояла, как машина – огромная, трепещущая, обтянутая узлами мускулов; на таком коне только целину пахать да деревья выкорчевывать.
Повитуха пошла к Феклуше.
Феклуша стирала свое вдовье добро, оголив налитые розовые руки.
Повитуха перекрестилась и спросила:
– А где же постоялец твой? Его там верховой спрашивает.
– Спит он, – сказала Феклуша. – Малый и так еле живой, будить не буду.
Дванов свесил с печки правую руку, и по ней была видна глубокая и редкая мера его дыхания.
Повитуха вернулась к Копенкину, и он сам дошел пешком до Феклуши.
– Буди гостя! – однозначно приказал Копенкин.
Феклуша подергала Дванова за руку. Тот быстро заговорил от сонного испуга и показался лицом.
– Едем, товарищ Дванов! – попросил Копенкин. – Тебя учительница велела доставить.
Дванов проснулся и вспомнил:
– Нет, я отсюда никуда не поеду. Уезжай обратно.
– Дело твое, – сказал Копенкин. – Раз ты жив, то это отлично.
Назад Копенкин ехал до самой темноты, но зато по более ближней дороге. Уже ночью он заметил мельницу и освещенные окна школы.
Петр-сторож и Мрачинский играли в шашки в комнате Сони, а сама учительница сидела в кухне у стола и горевала головой на ладони.