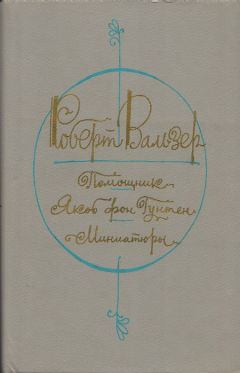— Нет-нет, — запротестовала девушка, но деньги в конце концов взяла и распрощалась.
Кто только не сидел на таких муниципальных скамейках! Йозеф принялся разглядывать людей, одного за другим, скользя глазами по кругу. Вон тот одинокий молодой человек, который чертит на песке тростью какие-то фигуры, ей-ей, наверняка помощник приказчика из книжной лавки. Впрочем, возможно, и не из книжной, ну тогда он принадлежит к армии продавцов из универсальных магазинов и, конечно же, имеет свои «виды» на воскресенье. А вот эта девушка напротив — кто она? Кокотка? Чья-то компаньонка? Или послушное, жеманное декоративное растеньице, кукла, чуждая переживаний, какие мир со щедростью и теплом протягивает людям, точно дивный букет цветов? Или она двулика, а то и трехлика? Возможно. Ведь бывало и так. Жизнь не столь уж просто разложить по полочкам да ящичкам. Ну а тот немощный старик с растрепанной бородой — кто он? Откуда пришел сюда? Чем занимается? Каким ремеслом? Может быть, он нищий? Или из тех загадочных подмастерьев, что просиживают будни в достославных конторах по найму, зарабатывая то поденно, то понедельно франк-другой? Кем он был раньше? Носил ли в былые времена элегантный костюм вкупе с тою же тростью и перчатками? Ах, жизнь не скупится на огорчения, но иной раз и радостью подарит, и душевным смирением, и наполнит сердце благодарностью, хотя бы за каплю сладкого вольного воздуха, которым ты можешь дышать… А там, слева, — что это за изысканная, и даже более того, благородная пара влюбленных или нареченных? Может, это путешественники, англичане либо американцы, мимоходом наслаждающиеся всем сущим в мире? У дамы на маленькой, как бы невесомой шляпке красуется изящное перышко, а кавалер смеется, и вид у него такой счастливый, нет, оба они счастливые! Пусть их смеются без умолку, ведь как это чудесно — смеяться и радоваться.
Дивное, милое, долгое лето! Йозеф встал и медленно пошел дальше, по богатой, фешенебельной, но тихой улице. Что ж, в воскресные дни богачи сидят дома, их нынче редко увидишь; выйти в такой день на улицу, должно быть, не вполне прилично. Все магазины закрыты. Редкие прохожие бродят по улицам, зачастую это довольно неприглядные мужчины и женщины. Каким смирением дышит такой вот сумбурный образ гуляющей толпы! Каким до горечи жалким может выглядеть летнее воскресенье. «Смириться, — подумал Йозеф, — н-да, для иного это последнее в жизни прибежище».
Так он и шел, минуя новые и новые улицы.
Сколько же их, этих улиц! Дом за домом тянутся они по равнине, взбираются на холмы, бегут вдоль каналов, большие и маленькие каменные блоки, изрытые жилищами для богачей и бедняков. Нет-нет да и мелькнет церковь — прочная, гладкая, новая, а то внушительная, спокойно-величавая, старинная, чья выщербленная кладка увита плющом. Йозеф миновал полицейский участок, где-то здесь много лет назад ему однажды врезался в уши пронзительный вопль истязаемого человека: связанного по рукам и ногам, его пытались усмирить палочными ударами.
Теперь дорога привела его на мост, улицы становились все беспорядочней и путанней, местность, по которой он шел, обрела сходство с деревней. У порогов сидели кошки, дома были окружены палисадниками. Вечернее солнце бросало желтовато-красный отблеск на высокие стены, на деревья в садах, на лица и руки людей. Окраина.
Йозеф вошел в один из новых домов, которые придавали этой почти сельской местности странноватый вид, поднялся по лестнице на четвертый этаж, постоял на площадке, для приличия отдышался, слегка отряхнулся от пыли и позвонил. Женщина, которая отворила дверь, увидев помощника, негромко вскрикнула от удивления:
— Неужели это вы, Йозеф? Вы?.. Входите же!
Пожав Йозефу руку, она потянула его в комнату. Там она долго смотрела ему в глаза, потом сняла с довольно-таки смущенного юноши шляпу и с улыбкой проговорила:
— Сколько же лет мы не виделись! Садитесь. — Она умолкла, но секунду спустя продолжила: — Ну, иди же сюда, Йозеф. Садись к окошку. И рассказывай. Я хочу знать, как тебе удалось так долго прожить, не написав мне ни единого словечка и ни разу меня не навестив. Выпьешь что-нибудь? Говори, не стесняйся. У меня есть немного вина.
Она усадила его рядом с собой у окна, и он начал рассказывать о резиновой фабрике, об английских фунтах, об армейской службе и о фирме Тоблера. Внизу на лужайке в лучах закатного солнца шумно резвилась детвора. Изредка доносился свисток паровоза, а то и пьяные крики и пение какого-то забулдыги, одного из тех подмастерьев, что повадились отмечать воскресные дни безобразными воплями, как бы ставя на них огненно-красное клеймо.
Имя и история женщины, которая внимала сейчас своему молодому знакомцу, очень просты.
Ее звали Клара, и выросла она в семье плотника. По случайности, она была землячкой Тоблера и потому кое-что знала о юности инженера. Воспитание Клара получила строгое, католическое; но с тех пор как она вступила в жизнь, взгляды ее полностью изменились, она зачитывалась произведениями вольнодумных авторов вроде Гейне и Берне. Работала Клара в фотографической студии, сперва ретушером, затем приемщицей и счетоводом; когда владелец студии влюбился в нее, она сошлась с ним, не без раздумий о последствиях столь независимого поступка, и даже более того, глядя этим последствиям прямо в глаза, решительно и открыто, и была очень счастлива. Она по-прежнему жила в родительском доме, только младшая сестра умерла меж тем от чахотки. Каждый день после работы Клара возвращалась домой, ехала поездом, час с четвертью. В это самое время Йозеф и начал бывать у нее. Ей нравился молодой, едва достигший двадцати лет парень, и она любила слушать его юношески незрелые излияния.
Удивительное тогда было время, удивительный мир. Сумасбродная и вместе с тем привлекательная идея по имени «социализм», точно пышная лиана, оплела головы и тела людей, не пропуская никого — даже умудренных опытом старцев; эта идея занимала всех до единого писателей и поэтов, всю молодежь, скорую на руку и на решения. Газеты социалистического толка и характера ослепительно яркими дурманными цветами тянулись из тьмы предприимчивости к изумленной и обрадованной публике. Вокруг рабочих и их интересов шума в те годы, как правило, поднимали много, но не очень всерьез. Часто устраивали шествия, во главе которых шагали и женщины, высоко вздымая кроваво-красные или черные стяги. Все, кто был недоволен обстоятельствами и порядками на свете, с надеждой примыкали к лагерю приверженцев этого страстного идейно-эмоционального движения, а авантюризм определенного сорта крикунов, скандалистов и краснобаев, с одной стороны, хвастливо превозносил это движение, с другой же — снижал его пафос до тривиальности, на что враги «идеи» взирали с удовлетворенным издевательским смешком. Эта идея свяжет и объединит весь мир, Европу и прочие континенты — так говорили между собой молодые, не вполне зрелые умы — в радостном союзе людей; но лишь тот, кто работает, вправе… и так далее.
Йозеф с Кларой были в ту пору целиком и полностью охвачены этим, я бы сказал, благородным и прекрасным огнем; по их общему мнению, его не могли погасить ни струя воды, ни дурные наветы, он алой зарей сиял над всем земным шаром. Оба они, как было модно в те годы, любили «человечество».
Нередко они часами, до глубокой ночи, засиживались в комнате, которую Клара занимала в отцовском домике, и беседовали о науках и о сердечных делах, причем Йозеф, обычно робкий в общении с людьми, говорил за двоих, да так оно и подобало, ведь подруга представлялась ему почтенной наставницей, перед которой ему надлежало излагать и развивать свои мысли как более или менее хорошо заученный урок. До чего восхитительны были эти вечера! Каждый раз, провожая Йозефа, женщина — тогда еще девушка — выходила со свечой на лестницу посветить ему и говорила нежным своим голосом «до свидания» или «прощай». Как блестели ее глаза, когда он оборачивался, чтобы еще раз посмотреть на нее.
Потом у Клары родился ребенок, и она стала «свободной женщиной», поскольку очень скоро поняла, что ее друг, фотограф, жестоко предал ее, и восприняла это как откровенное пренебрежение; и вот однажды вечером — Клара жила в крайне стесненных обстоятельствах — она просто указала ему на дверь и коротко бросила: «Уходи!» Он был недостоин ее! Она была вынуждена храбро признаться себе в этом или — отчаяться. Но с того дня она больше не любила «человечество», а боготворила своего ребенка.
Клара выстояла, она была мужественна и с малых лет приучена к труду. В скором времени она обзавелась собственным фотографическим аппаратом, устроила темную комнату и теперь, любовно воспитывая и пестуя своего малыша, переживая тяготы, и радости, и заботы матери, попутно делала снимки для открыток и, как самый тертый делец, вела переговоры с розничными торговцами и оптовиками. Жила она вместе с подругой юности, с которой судьба обошлась примерно так же. Это была некая г-жа Венгер, неглупая, но необразованная женщина, «хороший парень», как отзывалась о ней Клара. Муж г-жи Венгер числился солдатом Армии спасения, хотя и умом, и характером человек он был резкий и прямой, а вовсе не фанатик-святоша. К фанатикам он примкнул по сугубо практическим соображениям. «Вступай-ка ты, Ганс, в это общество, там скорей отвыкнешь от пьянства!» — сказала ему собственная жена. Дело в том, что Ганс пил горькую.