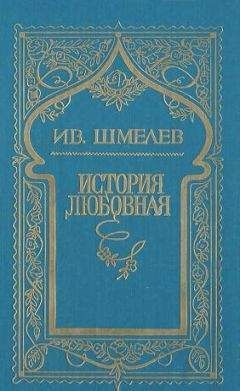– Чтой-то как хорошо пахнет? Будто хорошим мылом…
– Да… где-то обертка была, от мыла «Конго»…
– Вот-вот… – потянула она ужасно носом, – «конгой» пахнет!… всю даже комнату продушило…
«Продушило! – так меня передернуло, но я сдержался. – И чего она топчется?…»
– Ну, учитесь-учитесь, Тоничка… может, потом и меня подучите…
– Конечно… Ученье свет, неученье – тьма!
– На даче будем, вот и подучите. Она подошла к окошку.
– А подснежнички-то уж повяли… – сказала она грустно. – Да уж и пахнут…
Она выкинула их в окошко и ушла неслышно.
Мне стало легче. Передо мною лежала ее записочка, а неграмотная и внимания не обратила! Слышала только носом.
Я сумасшествовал, отвечая ей. Чего я хочу? Любви! Только одной любви! Я не знаю, что значит «страсть». «Вас я боготворю, как женщину! – писал я. – Прекрасную и святую! Почему вы удивлены? Что же любить мне в вас, если вы – женщина? Я готов вам слагать молитвы! Я весь трепещу пред вами, о незабвенная! Самая высшая мечта – целовать ваши руки, дышать одним с вами воздухом, слушать, как вы вздыхаете. Вы – тайна. Я видел ее во сне. Ребенком еще влюбился! Именно вас я видел в хрустальном ящике, вы раскачивались на трапециях, – и вот, я дождался вас! Вы не откажете алчущему и жаждущему сердцу! Я еще мальчик, да… но чем же я виноват, что в моем юном воображении вы занимаете царственное место? Вы – волшебная сказка, и я хочу вас слушать! И пусть я сгорю, как бабочка, на огне любви!…»
Было еще сильнее. Письмо я закончил стишками, которые я посвятил Паше. Но я переделал их.
Я изобразил молнию, ударяющую в сердце. Под ней:
Ты сердце молнией пронзила!
Твой образ, как небес цветок!
Меня ты взглядом поразила!
О, урони хоть лепесток!
Я умолял ответить. «Завтра, когда стемнеет, я буду ждать!»
Нужно было сунуть под дверь сейчас же. Я вышел в сени. Было уже за полночь, и луна на ущербе вышла. Я прошел коридорчиком, сенями. Пашино окошко не светилось. Когда подходил – подумал: «Услышит и подумает, что я к ней!»
– Это вы, Тоничка?… – услыхал я тревожный шепот. Окошко у ней было приоткрыто.
– Я… голова болит… хочу подышать, в садик…
– Вот, полунощники, разгулялись…
– А ты почему не спишь?
– Ах… «Мне не спится, не лежится… и сон меня не берет!» – пропела она сонно – прошептала: – Про кого-то все гребтится… да не знаю, по ком скучаю.
Она сидела в окошке, на подоконнике. Может быть, на луну глядела, встававшую над сараями, за галереей: на полу отражались стекла. Было свежо, и она куталась в шерстяную шаль.
Я спустился по черной лестнице и прошел к воротам. Гришка не дежурил. На той стороне пастухов дворник дремал на лавочке. Я прошелся по спящей улице. Прыскали в подворотни кошки. Выла у пастуха собака, но кто-то цыкнул – и стало ти-хо – Да так тихо, что дошло из Кремля, со Спасской: пробили часы – двенадцать. У Постойко еще светилось.
Я сунул под дверь записку, позвонился тихо и перешел на другую сторону. Парадное открылось и закрылось. Лампа в окне погасла. Опять завыла у пастуха собака. Проехал пустой извозчик, дремал в колени. Луна поднималась из-за дома, совсем косая. Пахло чудесно тополями и березой. Стало как будто парить, сходились тучки.
Паша еще сидела. Теперь окошко было совсем открыто.
– Нагулялись… – сказала Паша.
– Так, прошелся…
Я уже прошел мимо.
– Тоничка… – позвала она. Я приостановился.
– Что вы на меня сердитесь?
– Ничего не сержусь… напротив! Выдумала чего-то… сердитесь! – сказал я бодро, а в сердце укололо. – Не на что мне сердиться!
Мне стало ее жалко. Я присел к ней на подоконник и только теперь заметил, что она в новой кофточке.
– Вот, хорошо… кофточку ты надела, а то такая была грязнуха… Надо всегда одеваться чисто! – ласковей сказал я, придумывая, что бы еще сказать.
– Чистенькой-то, известно, лучше! – сказала она грустно. – И франтила б, да нет франтилов… Чистеньких-то и любят! Уличные-то вон, все чисто ходят…
– Конечно. Но надо и еще… образование, и красоту…
– Хорошенькая да приоденется если… всякому с такой лестно! – сказала она живо. – Не любите вы меня, Тоничка…
И она прижалась ко мне плечом.
– Во-первых, ничего подобного! Но… эти ужасные экзамены, расстраивают нервы, а я все время только и думаю…
Она положила голову на плечо ко мне. Я ее потрепал по щечке. Она вывернула лицо и заглянула в мои глаза.
– Не любишь?… – сказала она грустно.
– Люблю же, Паша!… Какая ты чудачка…
Она протянула губы. Я представил себе ее и нежно поцеловал Пашу. И она меня поцеловала. Я поцеловал ее еще раз, но Паша отняла губы.
– Уж я знаю, не любите вы меня, Тоничка! Ну, идите, а то опять проспите…
Я погладил ее по щечке и быстро пошел к себе. И все об одном думал: что-то она напишет!…
Я сидел у забора и поджидал. Стемнело. Придет?… Любит – придет. Обрывал на крыжовнике листочки. Если уколюсь, то – любит. Переколол все пальцы. Сколько на галерее окон? Если четное, то не любит?… Пять окон! Любит. Но я кажется, знал, что пять?… Сколько буковок в «Серафиме»… четное – любит! Восемь!
Корову подоили, сейчас и ужинать позовут. А она все не выбегала. Я сосчитал до тысячи, а она все не приходила. Начал вторую тысячу. Бахромщицына девчонка пробежала, постояла под бузиной и убежала.
И вот – услыхал шажки. Она бежала на цыпочках, как фея.
– Конечно, вы здесь… и ждете?… – услыхал я чудесный шепот.
– О, это вы!… – прошептал я страстно. Она так чудесно засмеялась!
– Вы сумасшествуете… Это последний раз! Слышите?… Меня начинает мучить совесть… Мы должны кончить. Ну, вот, я вам ответила… И это все… Мне вас жаль, но, милый… нельзя же так. Прощайте…
И она пропала, прежде чем я ответил.
Ее, сиреневая теперь, душистая записка говорила:
«Я совершаю преступление, отвечая вам. Я не могу ответить на ваше юное непосредственное чувство. Не такой же любви вы ждете? Вы ждете чего-то необыкновенного? Но… так все обыкновенно! Советую вам читать Шпильгагена, Жорж Санд и, особенно, Чернышевского – „Что делать?“. Тогда ваши идеалистические стремления найдут выход. Ваша страстность вносит в мою душу смуту. Но я не смею отвлекать вас, мешать учебным занятиям. Я плачу над вашими письмами, но… забудьте выдуманную вами „небожитель-ницу“. Я просто самая обыкновенная „бабенка“!
Ваша, немножко увлеченная вами С…
P. S. Хорошо. Я решаюсь объясниться. Я должна на два дня уехать. Во вторник или среду я напишу вам, где и когда мы встретимся. И кончим? да? Право, милый мальчик, кончим?… Не будем распеленывать ваш „идеал“? Вы можете разочароваться, прикоснувшись к грубой реальности. Посылаю вам маленький „лепесток“. Какой вы хитрый обожатель! Довольны? „Неземная“ – пишете вы! О, слишком земная и слишком грешная, как все женщины, хотя и Серафима. И недостойна вашей нетронутой чистоты. Ах, если бы вы забыли выдуманную вами „нетленную“, „неземную“ и „божественную“! Будьте же благоразумны…»
Я рыдал над ее письмом. Я вдыхал одуряющий аромат востока, я припоминал музыку ее шепота, ее удивительное – «ах милый мальчик!» Она уже посылала мне маленький «лепесток»! Я мечтал, как она подарит мне обворожительный поцелуй женщины… Я понимал, что в ней происходит страшная внутренняя борьба. Она готова со мной расстаться, но в приписке она не в силах бороться с одолевающею ее… с зарождающимся в сердце чувством? Она плачет… Она боится, что я разочаруюсь!… Мы встретимся в Нескучном, в глухом уголке сада, у каменной беседки, где колонны, на берегу зарастающего пруда… или в «Аллее Вздохов», откуда виден купол Христа Спасителя! Или – у «Чертова Оврага»… Там соловьи поют… Но почему она – «грешная, как все женщины»? она… не девушка? Если она любила… почему же – грешная?… Значит, кого-то она любила…
Кончить?… Нет, это невозможно. Я хочу держать ее маленькую ручку, ручку ребенка-женщины, пожимать ее нежно-нежно, пить аромат шелковистых ее волос, пропитанных ароматами Востока… Я хочу носить ее, как ребенка, сажать к себе на колени, целовать ее чудные глаза и розовый «цветочек», с которого будут падать душистые лепестки, страстные поцелуи женщины, и читать ей свои стихи, написанные кровью сердца, написанные для нее одной…
И я написал отчаянное письмо.
«…Это не преступление, что вы уделяете мне хотя бы крупицу счастья. Да благословит вас Творец! Вспомните „лепту вдовицы“! Пушкин сказал словами князя Гремина: „Любви все возрасты покорны, ее порывы… благотворны! для юноши в расцвете лет, едва увидевшего свет!“ Это знаменательная фраза в устах Пушкина, и, конечно, Пушкин, как великий поэт, не мог бросать ее на ветер! Если вы уважаете Пушкина, вы должны признать это. Даже для – „едва увидевшего свет!“ – как я, хотя я уже многое повидал и много уже прочитал, как, например: „Дон-Кихот“, „Юрий Милославский“, „Демон“, „Мцыри“ и „Маскарад“ Лермонтова, массу всяких романов! Конечно, я немедленно проглочу всего Шпилгагена и Жорж Санд и „Что делать?“ Чернышевского, но уверен, что они не разубедят меня! Сама жизнь, устами Гения, говорит мне – люби! И вы сами уже немножко интересуетесь мною? Или я ошибся? Нет, не отнимайте у меня последнего утешения видеть Солнце! Вы – Солнце, вдруг осветившее мне весь мрак моей суровой жизни. Вы, как Зинаида из „Первой любви“ – удивительная повесть И. С. Тургенева, если вы уже читали! Да, вы для меня – лучезарная Зинаида, тоже „грешная“ женщина, отдававшаяся безумной любви даже под хлыстом любимого человека! Я плачу, перечитывая ваши письма, вдыхаю аромат женщины! Да, вы женщина, как античная Венера, а я только „мальчик“, но если ваша любовь только игра сложившейся женщины, то и тогда я с радостью пью яд обмана! Дайте мне, умоляю вас, пить этот отравляющий обман и боготворить вас! Вы мне необходимы. Я знаю, что вас окружают тысячи поклонников – может быть, более меня достойных, но бросьте мне хотя бы корку от вашего пира любви, и в этом я почерпну силы, чтобы завоевать в ваших глазах место, достойное вашей любви. Любимый мною поэт Лермонтов сказал когда-то: „Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит!“ Так и я. Я один выхожу на дорогу, и впереди туман, и кремнистый путь! Но… пройдут года, и я завоюю место в ваших глазах и… сердце? да? и получу право просить вашей руки и сердца, если хоть одна слабая искорка любви и чувства ко мне сохранится в нем! О, позвольте мне хотя бы мысленно лобызать края вашего платья! Простите, я не в силах сдержать обуревающее меня чувство. Я медленно сгораю, я не сплю и не ем, ночи и дни напролет думаю о вас, и ваш телесный образ божественно наполняет мою душу! О, розоперстая Эос! заря утренней моей жизни! Если бы я был Гомер, я написал бы „Серафиаду“ и воспел бы вас героически! „Эннепэ, Муза, полютронон гос мала полля!“ – как поет Гомер Одиссея! Отныне я ваш Гомер! И вы… о, вы должны быть моей Вся вы, и ваша бессмертная душа, и ваше прекрасное и бессмертное для меня и святое тело! да, тело богини Венеры! Я безумствую, я целую ноготки ваших пальчиков и ваши каблучки! Простите безумного сумасброда, я в каком-то вихре! Ваш Тон. Так меня зовут. Я не люблю, когда прибавляют „Ан“. Некоторые зовут меня Тоничка… и, кажется, влюблены в меня. Но что же мне делать с сердцем?!»