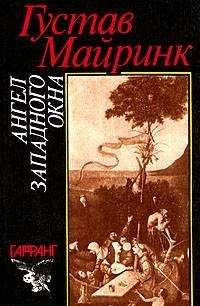«Вот она — тайна жизни, — вспыхнуло во мне. — Так покидает свою бренную оболочку бессмертие, так, согласно предназначению своему, победоносная воля сокрушает темницу и выходит на свободу».
И я вдруг вижу самого себя, многократно повторенного у меня за спиной длинной чередой образов, начало которой теряется в далёком прошлом моей жизни: сидящего на корточках рядом с Бартлетом Грином в Тауэре; читающего скучные манускрипты и травящего зайцев в шотландском горном убежище Роберта Дадли; составляющего в Гринвиче гороскопы для юной Елизаветы — диковатой недотроги; расшаркивающегося в церемонных поклонах и произносящего бесконечные тирады перед императором Максимилианом в Офене, в Венгрии; месяцами плетущего дурацкие интриги вместе с Николаем Грудиусом, тайным секретарем императора Карла и куда более тайным розенкрейцером. Я видел себя словно живую статую, застывшую в каком-нибудь нелепом положении то от умопомрачительного ужаса, то от беспомощности, в ослеплении чувств: больной в Нанси, на постели в покоях герцога Лотарингского; сгорающий от ревности и любви, переполненный планами и надеждами в Ричмонде перед пламенной, ледяной, ослепительной, подозрительно уклончивой, перед ней — перед ней…
Вижу себя у ложа моей первой жены, моей ревнивой ненавистницы, моей несчастной Элинор, когда она боролась со смертью; вижу, как потихоньку выскальзываю от неё, из темницы смерти, на свободу, в сад Мортлейка, к ней — к ней — к Елизавете!
Личинка! — Личина! — Маска! — Иллюзия! — Призрак! И всё это я; нет, не я, а коричневый червь; то здесь, то там он судорожно цепляется за землю, в муках рожая другого, окрыленного, истинного Джона Ди, покорителя Гренланда, завоевателя мира, юного принца!
Прошли годы, а извивающийся червь так и не родил блистательного жениха!.. О юность!.. О пламя!.. О моя королева!!!
Такова была утренняя прогулка пятидесятисемилетнего мужчины, мечтавшего в двадцать семь увенчать себя короной Англии и взойти на трон Нового Света.
И что же произошло за эти тридцать долгих лет, с тех пор как я в Париже восседал на прославленной кафедре, а учёные мужи, король и французские герцоги внимали мне подобно прилежным ученикам? О какой терн порастрепалось орлиное оперение крыльев, которые стремились к солнцу? В каких силках запутался этот орел, что вместе с дроздами и перепелами разделил судьбу дичи и лишь благодаря Господу Богу заодно с домашней птицей не угодил на жаркое?!
В это тихое пасхальное утро вся моя жизнь прошла у меня перед глазами; но не так, как обычно бывает с воспоминаниями, — я видел себя живого, во плоти, «у себя за спиной», каждый период моей жизни был представлен соответствующей личинкой, и я в обратном порядке пережил все муки рождений, примеряя на себя эти покинутые телесные оболочки с самого начала моей сознательной жизни и до сего дня. Но это схождение в ад несбывшегося не было напрасным, ибо замер я пораженный — столь путаным предстал очам моим пройденный путь, словно озаренный внезапно ярким солнечным светом. И подумалось мне, что есть смысл перенести видения этого дня на бумагу. Итак, всё случившееся со мной за последние двадцать восемь лет озаглавлю я:
ВЗГЛЯД НАЗАД
Родерик Великий из Уэльса и Хоэл Дат Добрый, которого народные сказания воспевали на протяжении веков, — мои родоначальники, гордость нашего рода. Таким образом, моя кровь древнее крови обеих Роз Англии и обладает такими же правами на трон, как и та, коя призвана к власти в королевстве.
Честь крови никак не может быть умалена тем, что в бурях времени владения эрлов Ди уменьшились, титул потускнел и некогда славный род пришёл в упадок. Мой отец, Роланд Ди, баронет Глэдхилл, человек дикого и безудержного нрава, из всего доставшегося ему в наследство сохранил только замок Дистоун да более или менее протяженный участок земли, ренты с которого как раз хватало на то, чтобы удовлетворять его крайне грубые страсти и столь же поразительное тщеславие: ведь он воспитывал меня, своего единственного сына, последнего в древнем роду, не иначе как для нового расцвета и славы нашего дома.
Как только дело касалось моего будущего, он, словно пытаясь искупить чрез меня грехи своего отца и деда, обуздывал свою натуру, и хотя он почти не видел меня и стихии наши были так же противоположны, как вода и огонь, тем не менее лишь ему одному я обязан поддержкой моих склонностей и исполнением столь далеких ему желаний. Человек, у которого любая книга вызывала ярость, а науки — издевательский смех, тщательнейшим образом пестовал мои таланты и предоставил мне возможность — даже в этом проявилась его непомерная гордыня! — получить самое блестящее образование, о каком только мог мечтать богатый и высокородный английский дворянин. В Лондоне и Челмсфорде нанимал он мне первых учителей того времени.
Своё обучение я завершил в колледже Св. Иоанна в Кембридже в кругу благороднейших и толковейших умов Англии. И когда я в двадцатитрехлетнем возрасте не без блеска защитил в Кембридже степень бакалавра, получить которую нельзя ни деньгами, ни хитростью, мой отец устроил в Дистоуне пир; чтобы оплатить поистине королевские долги, в которые он с бессмысленным расточительством залез ради этого события, пришлось заложить почти треть всех наших владений.
Вскоре после этого он умер.
А так как моя мать, тихая, хрупкая, всегда печальная женщина, давным-давно скончалась, я в свои двадцать четыре года нежданно-негаданно оказался единственным и полноправным наследником древнего титула и всё ещё довольно значительного состояния.
Если я, может быть, излишне настойчиво и упоминал здесь о несходстве наших с отцом натур, то делал это ради того лишь, чтобы в наиболее выгодном свете представить чудесное прозрение этого человека, который, сам в этой жизни ничего знать не желавший, кроме ристалищ, игры в кости, охоты и пирушек, тем не менее сумел разглядеть в презираемых им семи свободных искусствах силу — и мою к ним склонность, — способную вернуть блеск и славу нашему родовому гербу, изрядно потрескавшемуся и потускневшему в годину лихолетья. Однако нельзя сказать, что мне не перепала добрая толика буйного и необузданного нрава моего отца. Из-за вспыльчивости, невоздержанности в вине и одного ещё более достойного всяческого порицания изъяна моей натуры я уже в ранней юности нередко оказывался в весьма рискованных переделках, чреватых опасностью нешуточной. Давняя и по юношескому легкомыслию — более чем дерзкая авантюра с ревенхедами была ещё не самой сумасбродной, хотя именно она роковым образом изменила курс моей жизни.
Беспечность — о дне завтрашнем я не помышлял — и страсть к приключениям — вот то, что в первую очередь побудило меня сразу после смерти отца бросить имения и хозяйство на управляющих и эдаким новоиспеченным лордом пуститься в странствия, удовлетворившись более чем скромной рентой. Меня манила шумная жизнь Лёвена и Утрехта, Лейдена и Парижа, но прежде всего университеты этих городов и громкая слава процветающих там наук, официальных и тайных.
Гемма Корнель Фризиус, великий математик, достойный последователь Эвклида наших северных широт, и высокочтимый Герард Меркатор, первый среди знатоков неба и земли своего времени, стали моими мэтрами, и вернулся я домой увенчанный славой физика и астронома, равного которому в Англии ещё не было. И это в мои-то двадцать с небольшим лет! Ясное дело, заносчивость моя не стала от этого меньше, а моё наследственное и благоприобретенное высокомерие взошло как на дрожжах.
Однако юность и сумасбродные выходки не помешали королю назначить меня профессором греческого языка в пользующийся его высочайшим покровительством колледж Святой Троицы в Кембридже. Что ещё могло более полно ублажить мою гордыню, чем назначение туда, где я совсем недавно сам собственным задом полировал учебную скамью?
Надо было видеть, как добропорядочные профессора и магистры вкупе с почтенными бюргерами задирали в небо носы, а иные бормотали, забившись под лавки от ужаса, смиренные молитвы против диавольских ков и чёрной магии юного и чересчур дерзкого мастера на все руки Джона Ди.
Будь мой взгляд повнимательней, я бы уже тогда, в шуме, смехе, воплях и суматохе безумного того дня, разглядел нравы и обычаи мира, на жизнь в коем был проклят моим рождением. Ибо мир сей, с его косной чернью, шуток не понимает и за самую безобидную шалость мстит жестоко и неумолимо.
В ту ночь они осадили мой дом, дабы схватить чернокнижника, заключившего пакт с диаволом, и предать своему бестолковому судилищу. Декан и настоятель факультета кряхтели во главе толпы, подобные чёрным неуклюжим грифам, призывая покарать дерзкого mechanicus[29] за его кощунственный вызов Господу Богу.
И не окажись тогда рядом моего приятеля Дадли, а также честного и достойного ректора колледжа, кто знает, не растерзал бы меня на месте этот учено-профанический плебс, дабы я собственной кровью искупил вину перед алчной небесной бездной!