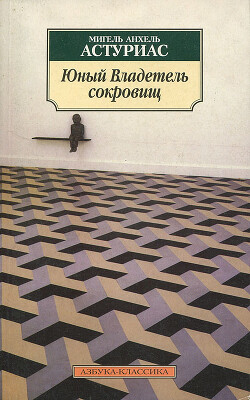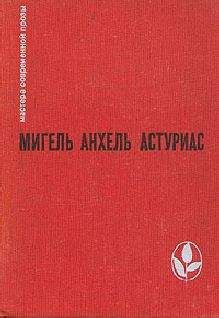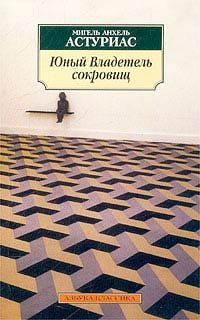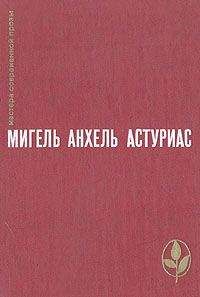Белая, пористая, как пемза, луна покачивалась среди туч в масленом небе. Звезды казались стершимися золотыми буквами старой Псалтири. Песок шелестел и потрескивал, словно в песочных часах, набухая от ночной росы в аллеях, засаженных деревьями с красными и желтыми цветами, а в ветвях сидели ночные птицы — кичливые совы, красавицы тьмы, но все это было нам безразлично, мы слушали шум воды в канавках и в пруду, боясь упустить хотя бы одно «с-с-с-с-с».
— Что ты сказал? — испуганно спросил слепой.
— Ничего…-ответил я, хотя на самом деле, вдохнув запах руты и ртом и носом, я пробормотал тихонько, почти себя не слыша:— Значит, они… значит, я…— Не зря говорят, что у слепых чуткое УХО. как у чахоточных.
— Я просто так спросил. Молчать — что умереть. Это я о человеке, остальные всегда разговаривают. Почему ты молчишь? Тебе неприятно то, что я поведал? Прости! Раньше ты столько рассказы нал. а теперь не говоришь ничего. Я ведь в вечной тишине, в печной темноте, прямо хоть хорони меня…
— Тихо!-крикнул я. — Не смей, не говори о смерти! У ног моих скакала жаба. Мне захотелось поймать ее, дать слепому и сказать, что это попугай. Я ненавидел его. Я должен был отомстить. Вода шелестела в канавках. Тьма была как накидки моих матерей.
— Пойдем к пруду…— робко и виновато предложил он.
— В другой раз, не сегодня. Пошли-ка лучше домой.
— Почему, мы ведь собирались туда пойти? Надо попробовать, надо узнать, какая она, вода.
Слепой поднялся со ствола, на котором мы сидели, и, без моей помощи, двинулся к пруду, медленно, точно вода в канавках, находя дорогу по неслышному шороху жидкой простыни, колышимой ветром — с-с-с-с, с-с-с-с, с-с-с-с… Какая птица запела? Какой цветок проснулся, не красавец ли цветок гуаябо? Какая звезда угасла навеки? Небо втянуло ее и поглотило.
Я пошел за ним и удержал его прежде, чем он достиг пруда, а вернее — удержал себя самого. Если бы мы сделали хоть шаг, я бы столкнул слепого в воду.
«Значит, они… значит, я…»
Черные деревья, плюшевые тени во тьме, ветер колеблет и множит ветви…
Утоплю!
Если сейчас столкнуть его в воду, никто не узнает, что это я.
Утоплю вместе с моей тайной…
Только ведь знает не он один, знает Эдувихес. Мои матери — поистине, язык без костей —ему рассказал и, что они…что я… Хотя пускай его знает, это неважно. Он уже и забыл. Старики все забывают, с них все спадает на пути к смерти. Главное — нельзя, чтобы знал слепой. Я просто бесился, думая о том, что вместе со мной будут расти и он, и моя тайна.
Но я не мог столкнуть воду того, кто доверился мне и боится, что просто я не знаю, идти к пруду или вернуться домой.
— Тебе страшно? — спросил он.
— Страшно, страшно! Пошли домой.
Я тащил его. («Значит, они… значит, я…») Я хотел довести слепого до дому, бросить в постель, пускай уж сам задохнется во сне. Мне было страшно вспомнить, что у меня мелькнула мысль: надо снять с него рубашку, столкнуть голым, чтобы решили, будто он купался…
— Теперь — на цыпочках, — сказал я, войдя к нему в дом. Бедняга так старался, шел так ровно, на самых кончиках пальцев, будто всегда ходил бесшумно, незаметно. Но ведь он слышал то. чего не должен был знать, никак не должен. («Значит, они… значит, я…»)
Я не попрощался. Галерейка… Большой дом. Сеньоры в черном, которых я не встречал, хотя их ждали каждую ночь; свечи в канделябрах, столы накрыты, кровати постелены. Слуги с косами похожими на косицу черного чеснока. Рыбаки у Лужи, пахнущей болотной водой. Пристальный взгляд стеклянных глаз. Галерейка. Почему меня не украли цыгане? Я ведь гулял за руку с цыганкой. Слуги не пустили…
И все-таки я тоже сбежал, на паруснике, с Настоятелем, которого епископ поставил во главе прихода, того самого прихода, откуда мы однажды ночью уплыли к дальнему, невидимому берегу. Мы преследовали, мы искали пиратский бриг, затерявшийся в открытом море, бриг без матросов, их убила отравленная молния, хотя казались они живыми, потому что каждый остался там, где был, где командовал, гулял, работал. С ними плавал мой отец. Когда матери мои проснутся, я спрошу, хоть бы слезы их были большими, словно камень, куда навеки уехал экипаж благотворительного общества, не помогавшего семьям, где есть незаконные дети.
В дверь громко застучал и. Светало. Пришел Эдувихес и сказал, что сын его утонул в пруду. Я вскочил с кровати. Матери накидывали халаты, а я, застегиваясь на бегу, подтягивая штаны, не зашнуровав башмаков, несся впереди всех.
У пруда собрались садовники. Слепой словно спал на воде, в белой рубахе. Какой-то садовник разделся, чтобы вытащить его.
Больше я ничего не видел. Меня увели. Одна из матерей — та, кого я считал матерью, — взяла меня за руку, и мы поскорее пошли домой, а за нами едва поспевала та, кого я считал сестрою.
Они прикрыли дверь. Заплакали. Я не мог выжать и слезы. Плакали они тихо, как бы играя гаммы. С ресниц срывались круглые ноты — половинки, четвертушки. У Эдувихеса в доме плакали громко, навзрыд.
Я не понимал, что слепой и вправду умер, скорее то была игра, неправда, сон. Меня не пускали даже к дверям, но я знал, как убежать, когда стемнеет.
Кто шел за мной? Кто меня звал?
Звезды, словно выкопанные из земли, пыльные, грязные… Кошки с бездонными глазами… Деревья, в которых выл ветер…
Я ненавидел его. Ненавидел. Я чувствовал, что тащу его за руку, чтобы столкнуть в пруд, и потому схватил горсть углей из костра, зажженного Эдувихесом, и швырнул их втемную воду.
Ничего… Никого… Угли погасли…
Значит, они… значит, я…
Ш-ш-ш. ш-ш-ш… ветер в воде…
Значит, матери… Значит, галерейка… слуги с косами… Злой Разбойник… цирк… Ана Табарини… негр Писпис… Настоятель… карета благотворительного общества — все это было мечтой…
Дым угасших углей плыл над водою, словно рубаха слепого.
Я перекрестился и чуть не сказал: «Во имя святого креста», но произнес: «Во имя мечтаний!..»
Ш-ш-ш, ш-ш-ш… ветер в воде…