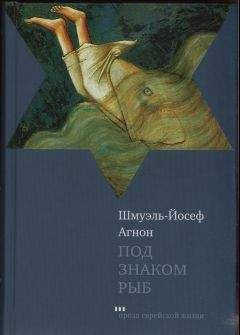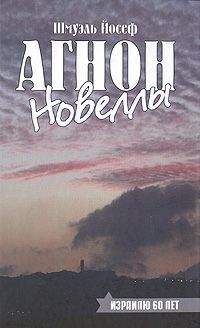Синагога здесь красивая, что снаружи, что внутри. Какие-то верующие американки пожертвовали деньги на ее строительство, но один угол в ней так и остался незаконченным, потому что подрядчики по ходу строительства много денег растратили впустую, а когда попросили у тех женщин добавить им еще, у них больше денег не оказалось, так как в Америке в те времена было туго с финансами, вот и остался один угол в синагоге недостроенным. Впрочем, если не смотреть в ту сторону, то этот недостаток как бы и не заметен.
Стоит себе синагога, высится над всеми домами квартала. Красивая снаружи, красивая внутри. Пол выложен из больших камней, а потолок белый, как побелка в храмовом зале. Стены ровные, а в них двенадцать окон, по числу небесных ворот для молитвы. Праотец Иаков оставил двенадцать колен, и Господь, благословен будь Он, оставил для них в небесах двенадцать окон, чтобы принять молитву от каждого из колен. А нынче расплодилось семя тех колен, и они разделились на сефардов и ашкеназов, на фарисеев и хасидов, а хасиды сами разделились по их цадикам, и каждый теперь молится на свой лад. Но небеса-то по-прежнему стоят в цельности, и ворота для новых молитв в них не открываются, и вот теперь, когда каждый начинает молиться, он хочет, чтобы все молились на его лад, и от этого все время происходит изрядная путаница и дело доходит до брани.
Наконец водитель вышел из дома, сел в автобус, погудел, позвал и снова погудел. Пассажиры стали подниматься, толкая друг друга. Водитель еще раз прогудел, крикнул, сдвинул свой автобус с места, и тот, покачиваясь, направился в сторону шоссе. А квартал снова застыл в молчании. Когда б не тяжелый запах перегоревшего бензина, оставшийся в воздухе, ничто бы не говорило, что только что здесь были люди.
Я увидел человека, который сидел около своего дома и читал книгу. Я подошел, и заговорил с ним, и сказал, что они, наверно, благодарны господину Гедалии Кляйну — ведь если б не он, тут бы не было никакого жилого района. Выпустил тот человек из рук книгу, вздохнул, улыбнулся печально и сказал:
— Пропадаю я из-за этого благодетеля. Дом мой наполовину развалился, наполовину завалился и весь сдан разным жильцам. Если его продадут за долги, я даже часть своих долгов не смогу уплатить, а если он останется в моих руках — где мне взять деньги, чтоб его починить? И это только то, что касается меня. А что касается других, то у них та же беда. И еще одна беда тут у нас: квартал этот далеко от города, а люди работают в городе, и, чтобы им туда попасть, нужен автобус. А автобус не всегда есть, и монетка в кармане тоже не всегда есть. Коли так, шагай пешочком, но и тогда нет гарантии, что доберешься живым-невредимым. В мирное время соседи-арабы зарятся на твой карман, а когда объявляют чрезвычайное положение, то протягивают руку и по твою душу.
— Коли так, что же делать? — спросил я.
Он улыбнулся:
— Что нужно сделать, то мы, конечно, не сделаем. Но дай Бог, чтобы будущее не было хуже, ведь нет такого плохого, чтобы не существовало еще худшего. Что говорить, реб Гедалия Кляйн, вечной памяти, большой был человек, хотел сделать нам добро, когда мы здесь строились, помог нам в трудную минуту, нашел для нас деньги под малый процент, восемь процентов всего, в то время как другие гребут девять, десять, а то и все двенадцать процентов, но все равно, кто хоть раз влез в долги, того, в конце концов, выгоняют из собственного дома.
Я спросил:
— И что же, так ничего и нельзя уже сделать для вашего квартала?
— Помочь-то можно, — сказал он.
— Каким образом?
— А вот таким, — сказал он. — Когда придет мессия и волк возляжет рядом с овцой, мы перестанем бояться наших арабских соседей, и их козы тоже перестанут пастись у нас и разорять наши огороды.
— А до прихода мессии? — спросил я.
Он опять улыбнулся и сказал:
— Говорил Дедушка из Шполы[40]: ручаюсь душой моей, Владыка мира, что Твой мир будет становиться все хуже и хуже, пока не придет мессия. Правда, был однажды момент, когда могло повернуться к лучшему. Какой момент? Видел ты по дороге к нашему кварталу те два ряда домов, что отделяют нас от города и от соседнего квартала? Все эти дома, если ты обратил внимание, новехонькие, только что построены. Но раньше, до того, как их построили, там была пустая земля, и через эту пустошь легко было добраться от нашего квартала к другому. Пришли к нам хозяева этой земли и предложили ее купить. Мы сказали, что согласны. Потом пошли к нашим богатым соседям и сказали им: смотрите, эту пустошь продают, купите ее, и ни мы, ни вы не будем жить поодиночке в море арабов, которые наводят на нас страх, пока нас мало. И к тому же мы будем совместно платить за автобус, и за охрану, и за все другие общественные нужды, без которых ни одно еврейское поселение не может существовать. А соседи наши выпроводили нас ни с чем. Ну еще бы, они ведь для того и построились вдали от города, чтобы быть подальше от его нищеты, а тут опять появляются эти назойливые нищие и просятся жить с ними рядом. Начали мы тогда бегать из одного учреждения в другое и везде просить, чтобы купили эту землю. Ну и все эти учреждения отказали нам, те из соображений бюджетных, а те из соображений хозяйственных. Мало того, они сказали: вы сами ничего не сумели добиться, а теперь и других хотите втянуть в ту же яму. И пока мы сидели в унынии и расстройстве, явились арабы из Сирии, и купили эту землю, и построили себе эти большие новые дома, которые ты видел, и теперь мы живем здесь в постоянном страхе, и нам не по силам наладить здесь хоть какое-то подобие нормальной жизни, даже бакалейной лавки у нас нет. И ведь наши богатенькие соседи тоже пострадали из-за своей гордыни — теперь их со всех сторон окружили арабы, отрезали от еврейской части города, и автобус к ним ходит редко из-за отсутствия пассажиров, потому что каждый, у кого нет там собственного жилья, перебирается в город, а новые дома у них не строят, кто же станет строить себе дом в квартале, из которого его жильцы сами бегут. Да и те, у кого есть там дом, рады бы уехать оттуда, и весь этот величавый город-сад, что они себе там построили, весь он пустеет и вымирает.
Пока мы говорили, снова пришел автобус из города, и весь квартал вышел ему навстречу. Высыпали из него женщины и дети, у всех в руках хозяйственные сумки и мешки, рваные и латаные-перелатаные, а в тех сумках и мешках немного капусты, немного свеклы, немного редьки, немного чеснока и лука, а поверх — буханка-другая. Все, что может позволить себе бедняк. Сошли, поставили сумки и мешки на землю, снова поднялись в автобус и начали выбрасывать через окна связки ржавых клиньев и старых железных обручей, купленных в городе, чтобы укрепить ими шаткие свои жилища. Кто вышел из автобуса со скалкой в руке, а кто с детской люлькой.
Квартал оживился, даже те, что сидели по домам, вышли на улицу и принялись расспрашивать, что нового в городе и когда идти на дневную молитву. А меж тем стали подходить и другие люди, с утра ушедшие в город, взрослые и поменьше, одни из хедера, другие из ешивы, и по всему кварталу, от одного конца до другого, многие уже заторопились в синагогу.
Тем временем стали появляться арабы, которые вернулись из города с работы и шли в свои деревни, что по соседству. А за ними пришли арабские пастухи со своими овцами и подняли пыль до небес. Люди с трудом проталкивались среди овец, со стоном откашливаясь и выплевывая мокроту.
Приспело и мне время возвращаться, и я поднялся в автобус. Я сижу, время идет, а автобус стоит. Я спросил водителя, когда он поедет.
— А мне и здесь хорошо, — ответил водитель.
— Если вы не едете, — сказал я, — так и скажите, я пойду пешком.
— Разве я пророк, чтобы знать, поеду ли я? — сказал он. — Коли вам не жалко своих ног, так идите. Если мне повезет найти пассажиров, я вас нагоню по дороге, а не повезет — заночую здесь. Что, разве здесь не красиво? Воздух такой, что душу лечит. Жаль только, что одним воздухом не проживешь.
Сошел я с автобуса и пошел пешком. И всю дорогу сопровождали меня те большие добротные дома. Когда только их построили? Не сообщали нам о них в газетах и не приглашали нас в них на новоселье, а они вот они — построены и стоят. И каждый дом окружен садом, и железный забор окружает этот сад, и ни одна арабская коза туда не зайдет. Да, строит Владыка мира свой Иерусалим когда руками евреев, когда руками иноверцев.
7
И вот шатаюсь я таким манером по иерусалимским улицам, как уже стало в моем обычае, и вдруг вижу большое объявление, что сегодня состоится траурный вечер в память господина Гедалии Кляйна по случаю завершения шлошим, то бишь тридцати дней после его погребения. Смотри-ка, уже тридцать дней прошло с той поры, как я написал свое письмо соболезнования!
Я достал часы, посмотреть, не пришло ли время, назначенное для вечера памяти, увидел, что нет, еще не пришло, и, чтобы сократить себе ожидание, побрел вдоль улицы, от стены к стене, от одного траурного объявления к другому. Не думаю, что был в тот день в Иерусалиме еще кто-то, столь же осведомленный, как я, в именах и титулах всех тех, кто должен был в этот день читать поминальные молитвы.