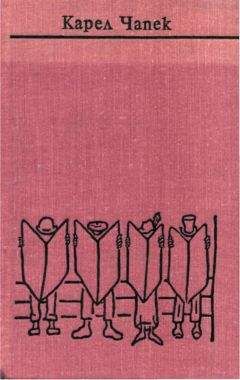— Это неверно! — воскликнул сэр Оливер. — Простите, падре, все было не так. Джульетта любила Ромео, но родители принуждали ее выйти замуж за Париса…
— Они, однако же, знали, что делали, — одобрительно буркнул старый патер. — Ромео был ribaldo[80] и стоял за Мантую.
— Но накануне свадьбы с Парисом отец Лоренцо дал Джульетте порошок, от которого она заснула сном, похожим на смерть… — продолжал сэр Оливер.
— Это ложь! — возбужденно прервал его падре Ипполито. — Отец Лоренцо никогда не сделал бы такой вещи. Вот правда: Ромео напал на Париса на улице и ранил его. Наверное, пьяный был.
— Простите, отче, все было совсем иначе, — запротестовал сэр Оливер. — На самом деле произошло так: Джульетту похоронили, Ромео над ее могилой заколол шпагой Париса…
— Постойте, — перебил священник. — Во-первых, это случилось не над могилой, а на улице, недалеко от памятника Скалигерам. А во-вторых, Ромео вовсе не заколол его, а только рассек плечо. Шпагой не всегда убьешь человека! Попробуйте-ка сами, молодой синьор!
— Scusi,[81] — возразил сэр Оливер, — но я все видел на премьере, на сцене. Граф Парис был заколот в поединке и скончался на месте. Ромео, думая, что Джульетта в самом деле мертва, отравился у ее гроба. Вот так было дело, падре.
— Ничего подобного, — буркнул падре Ипполито. — Вовсе он не отравился. Он бежал в Мантую, дружище.
— Позвольте, падре, — стоял на своем Оливер. — Я видел это собственными глазами — ведь я сидел в первом ряду! В эту минуту Джульетта очнулась и, увидев, что ее возлюбленный Ромео умер, тоже приняла яд и скончалась.
— И что вам в голову лезет, — рассердился падре Ипполито. — Удивляюсь, кто это пустил подобные сплетни. На самом деле Ромео бежал в Мантую, а бедняжка Джульетта от горя немножко отравилась. Но между ними ничего не было, кавальере, просто детская привязанность; да что вы хотите, ей и пятнадцати-то не исполнилось. Я все знаю от самого Лоренцо, молодой синьор; ну, конечно, тогда я был еще таким вот ragazzo[82], — и добрый патер показал на аршин от земли. — После этого Джульетту отвезли к тетке в Безенцано, на поправку. И туда к ней приезжал граф Парис — рука его еще была на перевязи, а вы знаете, как оно получается в таких случаях: вспыхнула тут между ними самая горячая любовь. Через три месяца они обвенчались. Ессо[83] синьор, вот так оно в жизни бывает. Я сам был министрантом на ее свадьбе — в белом стихаре…
Сэр Оливер сидел совершенно потерянный.
— Не сердитесь, отче, — сказал он наконец, — но в той английской пьесе все в тысячу раз прекрасней.
Падре Ипполито фыркнул.
— Прекраснее! Не понимаю, что тут прекрасного, когда двое молодых людей расстаются с жизнью. Жалость-то какая, молодой синьор! А я вам скажу — гораздо прекраснее, что Джульетта вышла замуж и родила восьмерых детей, да каких детишек, боже мой — словно картинки!
Сэр Оливер покачал головой.
— Это уже не то, дорогой падре; вы не знаете, что такое великая любовь.
Маленький патер задумчиво моргал глазками.
— Великая любовь? Я думаю, это — когда двое умеют всю свою жизнь… прожить вместе — преданно и верно… Джульетта была замечательной дамой, синьор. Она воспитала восьмерых детей и служила своему супругу до смерти… Так, говорите, в Англии Верону называют городом Джульетты? Очень мило со стороны англичан. Госпожа Джульетта была в самом деле прекрасная женщина, дай ей бог вечное блаженство.
Молодой Оливер с трудом собрал разбежавшиеся мысли.
— А что сталось с Ромео?
— С этим? Не знаю толком. Слыхал я что-то о нем… Ага, вспомнил. В Мантуе он влюбился в дочь какого-то маркиза — как же его звали? Монфальконе, Монтефалько — что-то в этом роде. Ах, кавальере, вот это и было то, что вы называете великой любовью! Он даже похитил ее и что-то такое, — короче, весьма романтическая история, только подробности я уже забыл: что вы хотите, ведь это было в Мантуе. Но, говорят, это была этакая passione senza esempio, этакая, беспримерная страсть, синьор. По крайней мере, так рассказывали. Ессо, синьор, — дождь-то уже и перестал.
Растерянный Оливер поднялся во весь свой рост.
— Вы были исключительно любезны, падре. Thank you so much.[84] Разрешите мне оставить кое-что… для ваших бедных прихожан, — пробормотал он, краснея и засовывая под тарелку пригоршню цехинов.
— Что вы, что вы, — ужаснулся падре, отмахиваясь обоими руками. — Столько денег за кусочек веронской колбасы!
— Здесь и за ваш рассказ, — поспешно сказал молодой Оливер. — Он был… э-э-э… он был весьма, весьма… не знаю, как это говорится… Very much, indeed.[85]
В окне засияло солнце.
1932
Пан Гинек Раб из Куфштейна[86]
© Перевод Н. Аросевой
Пан Янек Хвал из Янкова еще не опомнился от неожиданности. Судите сами — откуда ни возьмись свалился на голову гость, пан зять, да какой зять! Извольте взглянуть: штаны немецкие, усы венгерские, — большой пан, ничего не скажешь; а старый пан Янек в это время, засучив рукава, помогал телиться корове. «Вот беда, — подумал про себя растерянный старик, — и чего его черти принесли?»
— Пей, пей, пан Гинек, — усердно потчевал он зятя. — Винишко-то, правда, здешнее, пять лет тому будет, как привез его жид из Литомержиц. В Праге небось кипрское попиваете?
— И кипрское, и всякое другое, — ответил пан Гинек. — Но скажу вам, пан тесть, нет лучше доброго чешского винца. И доброго чешского пива. У нас и не знают, сколько есть своего добра, покупают всякую дребедень, лишь бы заграничная была. А думаете, повезет нам кто из чужих краев дельный товар?
Старик кивнул:
— Да еще какие безбожные цены заламывают.
— Естественно, — процедил пан Раб. — Возьмите вы хоть эти пошлины. Его королевское величество карман себе набивает, а мы плати. — Пан Гинек возмущенно откашлялся. — Ему лишь бы свои сундуки деньгами набить!
— Подебраду[87]?
— Ну да, этому коротышке… По виду-то скажешь — чистый мельник. Хорош у нас королек, а? Но долго так не протянется, пан тесть. Хотя бы по экономическим соображениям и тому подобное. А что, у вас в Янкове тоже так плохо?
— Плохо, мой мальчик. — Пан Янек потемнел лицом. — Ох, плохо. Мор на коров напал, сколько ни окуривай — не помогает. И, черт знает отчего, крестьянские хлеба головня пожрала. А прошлый год градом все выбило… Тяжко крестьянам. Подумай, пан Гинек, даже на посев семян, у них не осталось, пришлось мне раздать из своего…
— Раздать? — удивился пан Раб. — Вот этого я не стал бы делать, пан тесть. Зачем баловать мужика? Кто не может себя прокормить, пусть подыхает. Пусть подыхает! — с энергией повторил пан Гинек. — В наше время, пан тесть, нужна железная рука. Никаких подачек да пожертвований! Не хватало еще изнеживать мужиков! А времена-то еще и похуже настанут. Пускай лучше эти нищие привыкают понемногу к нужде. Пускай жрут древесную кору и всякое такое. Я бы ничего не стал им давать, а сказал бы прямо: эй вы, голодранцы бесштанные, скотина тупая и так далее, неужели вы вообразили, что у нас нет забот поважнее, чем наполнить ваши желудки? Нынче, сказал бы я им, все вы должны приготовиться к тяжелым жертвам. Надо нам думать о защите нашего королевства и ни о чем более. Вот как я сказал бы им, сударь мой. Время серьезное, и у кого нет охоты сложить голову за родину, пускай с голоду подыхает. И дело с концом. — Пан Гинек порывисто хлебнул из чаши. — Пока на ногах держатся — муштровать, учить обращению с оружием, и никаких разговоров.
Старый пан Янек вытаращил на зятя выцветшие глаза.
— Что вы, что вы, — в смятении забормотал он, — это вы о том, что — упаси бог! — война будет?
Пан Гинек усмехнулся.
— Как ей не быть! Должна быть: даром, что ли, у нас мир? Эх, пан тесть, ведь когда мир, то ясно же, — что-то готовится. Да это понял уже и… как бишь его называют-то?… ах, да, князь мира, — презрительно скривил губу пан Гинек. — Князь мира! — фыркнул он. — Еще бы, за свой трон трясется. А его на троне и не видно было бы, не подкладывай он три подушки под зад.
— Это вы о Подебраде? — нерешительно спросил старик.
— О ком же еще? Эх, сударь, ну и монарх у нас, благодарю покорно! Только и заботы, что о мире… Только и дел, что разные посольства и всякое такое. А на это денежки нужны, не так ли? Вот недавно в самый Глогов потащился, к польскому королю[88], — мол, пакт против турка. Так целую милю пешком отмахал навстречу поляку, подумайте! Что вы на это скажете?
— Ну что ж, — осторожно ответил пан Янек. — Мало разве о турке говорят?
— Все это ерунда, — решительно оборвал его пан Гинек Раб. — Но разве подобает чешскому королю столько чести оказывать поляку? Просто срам! — вскричал он. — Подебрад должен был ждать, пока поляк придет к нему! Вот до чего мы докатились, пан Янек. Что сказал бы на это покойный император Карл[89] или Сигизмунд[90]? При них-то, уважаемый, мы еще имели кое-какой международный престиж… — Тут пан Гинек сплюнул. — Тьфу! Диву даюсь, как это мы, чехи, миримся с таким позором.