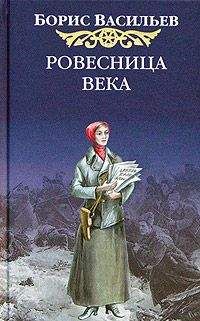— Вот говорю с вами, говорю, а — недоговариваю. Улавливаете? Автобиографию излагаю, а не саму сущность ее.
— А в чем же сущность?
Баба Лера старалась поддерживать прежний тон, хотя это давалось ей нелегко. Она не умела хитрить, не любила недоговоренностей, но не могла и в мыслях допустить, что можно поставить человека в неудобное положение. Природная деликатность удерживала ее от грубого: «Хватит лгать, знаю я про ваш голод!» И Калерия Викентьевна, насилуя себя, играла роль непривычную, чужую даже.
— Многого нас жизнь лишила, — сказал он. — А главная потеря — так это искренность. Боимся мы друг друга и даже на самом краю земли и жизни до конца не раскрываемся. Исповеди избегаем.
— Исповедь требует высшего мужества. Оно не каждому по плечу.
— А вы переменились в разговоре со мной, Калерия Викентьевна. Сильно переменились. Раньше все — «друг мой» да «дорогой мой», а теперь — ни-ни. Могилы мои испугали?
— Поверьте, что нет. Без задних мыслей… друг мой.
— Ну, поверю. — Грешник невесело усмехнулся. Помолчал, сказал, понизив голос: — Могилы раскапывать погано, но раскулаченных развозить — еще поганее, почему и боюсь, что Анисья услышит.
— Возили?
— Сопровождал. Только не проговоритесь, богом прошу. Одна она у меня.
— И Анишу тоже… сопровождали?
— Нет, тут повезло, я на других направлениях служил. Собрали нас в начале великого перелома, велели лопаты сдать и — по эшелонам. Нет, не конвойными, что вы. Сопровождающим агитатором. Получаешь эшелон, по дороге контролируешь, чтоб кормили, но главное — по вагонам агитируешь: мол, ты кем, отец, был? В навозе ты копался, как жук, а теперь в рабочий класс переходишь. Гордись!.. А бабы в голос голосят, детишки ревмя ревут, на станциях охрана никого из вагонов даже за нуждой не выпускает, а мы знай себе текущий момент разъясняем…
Да, рвали деревню из земли, как здоровый зуб: с хрустом, с мясом, с болью, с кровью, но и с наркозом, без передыху нахваливая завтрашний земной рай. Грохотали по бесконечным российским дорогам спецэшелоны, груз, как скот, принимали по счету и сдавали по счету, заменяя умерших официально заверенными бумажками: «мужчин сто двадцать, женщин сто сорок, детей шестьдесят три да пятьдесят два акта на выбывших в пути». А далее — дощатый барак, трехъярусные нары, буржуйка да сушилка, если она была. Подъем по рельсу, обед по рельсу, отбой по рельсу, а между рельсами — работа, работа, работа. И бесконечные митинги: «Ура, товарищи, первой свае!..», «Ура, товарищи, первому пролету!..», «Ура, товарищи, первому цеху!..» — знамена, грохот оркестров, восторги. Рождались новые дороги, города, заводы, плотины, каналы, а умирали люди. Умирали тихо, будто стыдясь, что помирают. И никто не подсчитывал, сколько человеческих душ заключено в одной лошадиной силе и не слишком ли дорого нам встал неистовый энтузиазм первых пятилеток.
Трохименков и его товарищи не возводили стен, не рыли траншей, не топтали ледяной бетон босыми ногами, они сопровождали, агитировали, доставляли, показывали пример. А все действительно росло, строилось, возникало на чистом месте, оживало, дымило, давало чугун и лошадиные силы, прокат и киловатты, автомобили, тракторы, комбайны. Великая цель оказалась реальной, не только достижимой, но и уже достигнутой раньше всяких сроков, и поэтому никто никогда не думал о средствах. Цель затмила их навсегда — именно в этом и заключалось величайшее достижение энтузиазма, — а выжившие раскулаченные, силком трудообязанные и прочие провинившиеся элементы и вправду уже перековались, получив специальность, навык, опыт и тем самым шагнув в ряды рабочего класса. И Трохименков видел гигантский размах строек, он с невероятной гордостью ощущал дерзостный порыв, он жаждал сам со всей энергией участвовать в великом деле.
— Я хочу стать монтером.
— Ты пойдешь учиться. Мы знаем, что у тебя слабовато с образованием, но — поможем.
Помогли…
— Помогли. — Лицо бабы Леры делается строгим, застенчивая улыбка вдруг покидает его. — Вспоминаю один разговор. В начале зимы… может, почувствовал он, что последняя она, зима эта?..
— Знаете, кто самый счастливый? Те, у кого детей нет.
— Я, по-вашему, самая счастливая?
— У вас есть дети, Калерия Викентьевна. Просто вы не знаете, где они и какие они, но они же существуют. Существуют — для мести. Кто знает, может, отбирали-то их у вас и фамилии не меняли, чтоб потом мщение их использовать.
— Каждое последующее поколение лучше предыдущего. Иначе и быть не может, это закон человеческого развития.
— Каждое последующее поколение судит предыдущее, потому что знает, понимает и может оценить его действия. Нет, уважаемая Калерия Викентьевна, сыновьям дано отмщение за грехи наши. Им отмщение, им.
— Знаете, а я один раз напилась, — неожиданно призналась баба Лера. — Купила бутылку водки и выпила почти всю. Одна. В пятьдесят восьмом, что ли. Когда окончательно сказали, что разыскать моих детей не представляется возможным. Извините, это — чисто женские воспоминания, а вы говорили о…
— О боязни, — он тоже говорил непоследовательно, потому что это была не беседа, а мысли вслух. — Люди всего боятся, замечали, поди? Смерти и жизни, прошлого и будущего. И общества боятся, и одиночества… Бояться — самый необходимый, самый наш глагол.
— Простите, не совсем поняла. Вы начали говорить вдруг очень уж литературно, друг мой, и суть я упустила.
— Суть? Суть — в удивлении: это как же нужно прожить жизнь, чтобы бояться в глаза собственным детям смотреть? Так что вы, Калерия Викентьевна, счастливый человек, что так и не нашли своих детей…
В ту зиму, страшную не только своими морозами, но и своей прицельной жестокостью, снега легли поздно. Уже цепко держались морозы, уже трещали деревья в лесу, уже звонким льдом затянуло старицы да заливы, а дороги еще не перемело. Еще не завалило их окончательно, еще кое-где и снега-то не было, а где был — так не выше колена. Еще Демово не отрезало от людей, не превратило в один-единственный дом, окруженный снегами по самые плечи. Еще существовала нормальная связь с Красногорьем, и Анисья торопилась использовать эту природную милость, через день бегая в магазин, в котором покупать было нечего. Но водка и здесь не переводилась, и Анисья помаленьку запасалась ею, хотя впрямую никогда этого не говорила, заботясь как бы совсем о другом.
— Спичек надо прикупить.
— Да ведь у нас есть спички, Аниша. На три зимы.
— Леря Милентьевна, так скажу, что запас ж… не дерет. А ну как отсыреют все враз?
В эти походы ее часто сопровождал Трохименков. Рыба уже залегла в ямы, не ловилась ни на крючки, ни в сети, а прогулки в Красногорье занимали все светлое время: уходили в темноте и возвращались затемно. Продрогнув и промерзнув, шумно вваливались в жарко натопленную избу к уютному самовару и готовому столу, и во всем была странная, почти праздничная радость. Радостью был теплый дом после длинной холодной и ветреной дороги; радостью оказывался накрытый стол после столь долгого пути; радостью пел самовар, и все эти радости вместе создавали праздник.
— Ах ты, рюмочка с устаточку! — восторженно и умиленно приговаривала Анисья. — Ничего нет слаще для русской души.
Странные это были походы. Весь длинный путь туда и назад, от Демова до Красногорья и от Красногорья до Демова, шли молча, и им было так хорошо, что усталые души их светлели, а ноги шагали и шагали, будто не отшагали до этого целые жизни. И никакой разговор не требовался, словно общались они на тех особо коротких волнах, когда мужчина и женщина понимают друг друга без слов. А если и возникали слова, то и они звучали особо:
— Ты не устала?
— Ай, несут меня ножки, Васенька. Я ж кругом тебя раз сто обегаю, а ты и не замечаешь.
— Не замечаю, Нюша. Ты уж прости, угрюмый я.
— И не замечай, угрюмый мой, мужикам не все замечать надобно. Вы ведь, поди, и знать-то не знаете, что бабы от счастья над землей летают.
Или шепотом:
— Глянь, Вася, белочка. Ах, хороша, ах, красива-то как, господи?
И брала его за руку. И они долго стояли рука в руке, глядя на рыжего зверька, деловито очищающего шишку. Так ведут себя молодые, вдруг заново замечая птиц и зверей, траву и деревья, солнце и дождь. Непрожитое дремлет в душе человеческой, как зерно, ожидая тепла и влаги, чтобы прорасти. И в душе Анисьи хранилась мечта о счастье и, ощутив тепло, проросла и зазеленела; и хмурый, ушедший в себя Грешник понял ее и понял себя, начав неуверенно улыбаться. Нерастраченная нежность Анисьи не только согрела, но и озадачила его: он все время хотел сделать ей приятное, доброе, все время страшился ненароком обидеть, задеть, оцарапать ее распахнутое настежь сердце, боялся, что слишком уж он сух, ожесточен, углублен в себя.
— Да будьте вы самим собой, — говорила баба Лера. — Не думайте вы, бога ради, как вести себя: женщины особенно чутки на естественность поведения, и Аниша только огорчается от вашего старания.