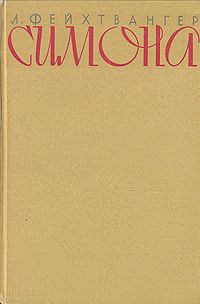Симона не шелохнулась и ничего не ответила. Она старалась сохранить обычное выражение лица и не выдать себя каким-либо движением, она была рада, что в комнате полумрак.
Через некоторое время мадам приказала:
— Включи радио.
Радио работало. Говорил город Дижон, который, по-видимому, был в руках у немцев. Диктор сообщал об успехах германской армии. Затем он сообщил об истреблении английских войск, пытавшихся эвакуироваться в Англию. Потом последовали приказы, относящиеся к вновь занимаемым районам Бургундии. Все общественные предприятия обязаны возобновить работу в течение двадцати четырех часов, то же относилось к производству и продаже продуктов питания. С наступлением темноты и до шести часов утра населению запрещалось покидать свои дома. Затем пошли местные известия. Из Сен-Мартена сообщали, что транспортная фирма Планшар сгорела дотла вместе со всем автомобильным парком; оккупационные власти совместно с французскими властями начали расследование.
Симона, ошеломленная этим градом новостей, вскочила. Все, значит, сметено до основания. И как раз вовремя. Забыв, что она не одна в комнате, девушка стояла с искаженным лицом, крепко ухватившись за спинку своего стула, охваченная трагической серьезностью этой минуты и чувством окрыляющей радости.
Мадам, казалось, вся обмякла, она больше не старалась владеть собой.
— Значит, так и есть, — повторяла она. — Боже мой, боже мой. Это оно и было. Значит, верно. Это оно и было. — Она так прерывисто и хрипло дышала, что Симоне стало страшно за нее. Она подошла ближе. Хотела помочь, но не решалась.
Мадам медленно приходила в себя. Симона не смела о чем-нибудь спросить ее, что-нибудь сказать.
Через три минуты, однако, мадам уже почти взяла себя в руки.
— У моего сына было верное предчувствие, — сказала она. — При таких обстоятельствах ему, разумеется, следовало непременно показаться в городе.
Через пять минут она вновь была той безукоризненно владевшей собой дамой, которую Симона знала всегда.
— Быть может, и телефон работает, — сказала она с горькой иронией, видно, немцы и впрямь любят порядок. Попытайся. Позвони мосье Пейру.
Симона стала вызывать номер. Телефон не работал. Это как будто уже не очень волновало мадам.
— Опусти жалюзи, — приказала она. — И включи свет. — Симона исполняла все, что ей приказывала мадам. Мадам тем временем размышляла вслух: Немцы запретили с наступлением темноты появляться на улицах. Сын мой достаточно благоразумен, чтобы не нарушать их запрета. Ждать его сегодня незачем. Сядем за стол, — решила она.
Симона подавала. Они ужинали. Симона знала, что мадам в большой тревоге за сына. Она и сама все время думала о дяде Проспере. Неужели немцы его арестовали? Как бы там ни было, его невиновность очень скоро будет установлена. Он может доказать, что изо всех сил противился распоряжениям супрефекта. А если боши ему не поверят, она готова пойти и объявить, что она это сделала сама, без его ведома. Она это сделала, и за это отвечает она, а не он.
Вполне возможно, что они задержали дядю Проспера. Тогда они, вероятно, заключили его в тюрьму Сен-Мишель, неподалеку от Дома юстиции. В детстве здание тюрьмы играло в ее жизни большую роль. Оно расположено близко от школы. Симона и другие девочки проходили мимо пего всегда со страхом, но в то же время его таинственность притягивала их. Там, за этими стенами, сидели опасные, ничего на свете не боявшиеся люди. Больше всего возбуждал в девочках ужас разбойник Гитрио, он содержался там временно, его должны были перевести в Франшевиль, главный город департамента. Бесконечное множество раз говорили они с Генриеттой о тюрьме Сен-Мишель. Генриетту это старинное здание занимало даже больше, чем Симону. Часто они специально проходили мимо тюрьмы, в надежде хоть когда-нибудь увидеть опасного преступника. Тяжело было представить себе дядю Проспера в тюрьме. Он, который так любит жизненные удобства, который привык, чтобы ему повсюду и везде оказывали уважение, — он этого просто не вынесет.
Мадам сидела за столом, точно ничего не случилось. Она не говорила ни о событиях, ни о дяде Проспере. Она ела мало, но ела.
Потом, когда Симона приготовляла салат, она взяла лорнет и, следя за руками Симоны, вскользь спросила:
— Ты, кажется, была сегодня в городе, Симона, не так ли?
Теперь — быть начеку, не сказать лишнего, но и не молчать.
— Да, — ответила Симона.
— Что сегодня было в городе? — спросила мадам.
Симона старательно перемешивала салат.
— Город был совершенно пуст, — сказала она, — все дома на запоре, я не встретила ни одного знакомого, одни солдаты на улицах, никогда еще город не был так пуст. Я заходила в супрефектуру. Там ждали бошей. Все были одеты по-праздничному. Маркиз тоже приехал туда, en grand tralala,[6] на машине и с шофером.
Она рассказывала, чтобы ничего не рассказать. Салат был готов, Симона поставила деревянную миску на стол.
— Ты была в городе, когда произошел взрыв? — спросила мадам напрямик.
Симона не покраснела. Симона ответила, и голос ее прозвучал совершенно естественно:
— Я услышала взрыв уже по дороге домой.
Одно мгновение мадам молчала. Потом спросила:
— Ты надевала зеленое полосатое?
— Нет, — ответила Симона. Она смело посмотрела в глаза мадам и решительно прибавила: — Я была в брюках.
Мадам поднесла ко рту вилку. Потом сказала:
— Если ты уже не могла отказать себе в удовольствии отправиться в город без разрешения, то следовало по крайней мере прилично одеться. Ты же сама говоришь, что в префектуре все были одеты по-праздничному. В высшей степени бестактно в такой день разгуливать в брюках.
Симона ничего не ответила.
— Ты слышала, что я сказала? — спросила мадам, все так же тихо, не повышая голоса.
— Да, мадам, — ответила Симона.
Она отвечала послушно, но в душе она ликовала.
Все годы между ней и мадам происходила тайная борьба за дядю Проспера. Мадам стремилась истребить и подавить в своем сыне все, что напоминало Пьера Планшара. Теперь своим деянием Симона раз навсегда разрешила спор. Теперь дядя Проспер на деле показал, что он брат Пьера Планшара, и весь мир увидит, что дядя Проспер подлинный Планшар.
Зазвонил телефон. Обе вздрогнули.
— Подойди к телефону, — приказала мадам.
У телефона был мосье Корделье. Он попросил к аппарату мадам. Мадам колебалась — подойти или нет. Ее неудержимо влекло к телефону, но она опасалась сказать что-нибудь не так. Она взяла себя в руки.
— Скажи, — приказала она Симоне, — что я уже в постели. Поговори с ним сама.
Симона попросила супрефекта сказать ей, что он хочет передать мадам. Мосье Корделье медлил.
— Передай мадам, — послышался наконец его высокий, глухой, нетвердый голос, — пусть она не беспокоится. Мосье Планшар не вернулся домой только потому, что населению запрещено выходить на улицу.
— Спасибо, господин супрефект, — сказала Симона. Она чувствовала тревогу, с которой мадам ждала, и решительно спросила: — Разрешите узнать, где находится мосье Планшар?
— Мосье Планшар у меня в гостях, — отвечал супрефект и так же осторожно, выбирая слова, прибавил: — Передай мадам, что все выражают ему живейшее сочувствие.
— Спасибо, — повторила Симона. — А что еще передать мадам?
— Завтра, с первыми лучами солнца мосье Планшар вернется домой, сказал супрефект.
Мадам стояла в прихожей, она не могла усидеть в столовой. Симона видела, каких усилий стоило ей побороть желание, вопреки всем доводам благоразумия, взять телефонную трубку.
Симона, продолжая разговор, спросила:
— Нельзя ли попросить к телефону самого мосье Планшара?
Супрефект опять нерешительно помедлил. Затем строго, официально сказал:
— Нет, это не рекомендуется, — и быстро добавил, словно для того, чтобы исправить впечатление от сухости последних слов: — Спокойной ночи, детка.
Мадам стояла, подавшись вперед огромной массивной головой. Симона никогда не видела ее в таком возбуждении, она вся дрожала от страха и тревоги. Симона поспешила передать ей содержание всего разговора. Ей пришлось в точности, слово в слово, повторить все. Мадам вновь и вновь переспрашивала:
— Как он сказал? Все выражают ему сочувствие? Так и сказал? Буквально? — Симона слушала супрефекта очень внимательно, она помнила каждое слово, и мадам взвешивала каждое слово. Симона, как ни противна ей была мадам, почувствовала жалость к женщине, дрожавшей за сына, и, если бы Симону не удерживала осторожность, она с удовольствием сказала бы: "Не тревожьтесь. Ему ничего не будет. Это сделала я, и я не допущу, чтобы поплатился кто-либо другой".
Мадам обдумывала каждое слово мосье Корделье. Нет, она уже не старалась замкнуться в свое обычное надменное спокойствие; это была старая женщина, охваченная глубокой тревогой за того, кто составлял смысл ее жизни. Вдруг все ее страхи и ярость нашли неожиданный выход: