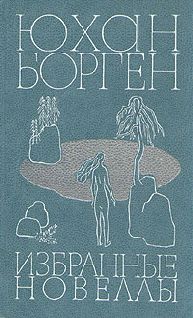13
Люди, которые приезжают из отпуска... где их дом? Громыханье большого города обрушилось на нас еще на Монпарнасском вокзале. Деловитая суета, царившая кругом, была укором всякому, кто непростительно погружен в себя. Улицы кишели людьми, целеустремленно сновавшими взад и вперед, мы же привыкли к людям, которые глядят на тебя... Сотни голов на улицах казались заблудившимися небесными телами в бескрайнем пространстве, наполненном вечным движением. Теперь мы, старые парижане, снова сидели по вечерам в кафе и, словно новички, беспрерывно изумлялись всему. Уличные музыканты по-прежнему наигрывали «Валенсию» — вот уже полгода, как эта песня звучала повсюду.
Наши земляки, теряясь в толпе, удивленно раскрывали глаза...
А я — давний житель Парижа, уютно окопалась в моей привычке к нему, впрочем, именно сейчас, загорелая, пышущая здоровьем, я все же чувствовала себя чужой в анемичной здешней атмосфере с постоянными толками об искусстве, с беспрерывным смакованием ничтожных происшествий. Скрипачку Мириам Стайн после отпуска дома ожидало письмо, извещавшее, что ее ходатайство, поданное через международную организацию музыкантов, удовлетворено: она принята в постоянный оркестр при парижском муниципалитете. Хоть я и не была музыкантом с мировым именем, меня если и не зазывали наперебой, то, во всяком случае, принимали. Так, значит, я принята!
Вскинув брови, Вилфред взглянул на меня тем самым уморительным дедовским взглядом, когда, казалось, ему не 27, а все 54, мне же не 24, а всего 12. Он радовался моей удаче и сказал весело:
— Ты добилась признания. Это не так легко — добиться признания.
Я настороженно искала в его взгляде и тоне следы иронии, но не нашла. Я подумала вдруг, насколько чуждо должно быть ему подобное честолюбие. Но разве его самого не хвалили за все, чем бы он только ни занялся?.. Я не знала, к чему он стремится.
Со сдержанным напряжением выслушивал он комплименты по случаю выставки его картин на родине: дескать, выставка эта — пощечина тем траченным молью старым критикам, которые не доросли даже до фовизма. Вилфреда наперебой приглашали в разные мастерские на чердаках — смотреть самые что ни на есть авангардистские картины, ровным счетом ничего не изображавшие. На бульваре Распай в ту пору открылась выставка Боннара; впрочем, Боннара эта публика сторонилась, даже почтенную голову Матисса и то готовы были снести. «А знаете ли вы болгарского художника Папасова? — спрашивали нас. — Он всегда пишет исключительно телеграфные столбы, зашифрованные телеграфные столбы, никто и не догадается, что это такое». Одна восторженная дама с прической под малярную кисть, глубоко заглянув Вилфреду в глаза, попросила у него совета.
— Напишите корову! — сказал он ей. И когда смех заглох: — Я всерьез вам это говорю, попробуйте написать корову в точности такой, какая она есть, и вы увидите, как это трудно.
Дама смущенно уставилась на него. Что он — смеялся над ней, над ними всеми или же попросту был старомодный натуралист, ненадолго увлекшийся экспрессионизмом? Что он хотел сказать этим советом? Зачем ей корова? Какой от нее прок?
— Делайте с коровой, что хотите, — сердито ответил Вилфред, — но сначала научитесь ее рисовать.
Когда мы остались одни, он сказал с досадой:
— Подумать только — эта шайка готова скомпрометировать все, чего истинные художники добились с помощью революции в искусстве!..
Он постарался скорей позабыть об этом случае. Мы вообще старались обо всем забывать. Горластые разносчики газет выкрикивали между взвизгами трамваев, что Германию приняли в Лигу Наций. Мы и это тоже постарались забыть, как и то, что Бриан согласился встретиться с Муссолини...
Меня пригласили на первую репетицию. Предстоял публичный концерт в честь президента Пуанкаре. Вилфред проводил меня к унылому дому в стиле девяностых годов у Люксембургского сада, где должен был состояться смотр наших сил. Мы вошли в темный коридор и ощупью искали дверь или человека, который бы нам помог.
Когда глаза наши привыкли к потемкам, мы разглядели слабую полоску света в конце коридора. Оттуда, изнутри, до нас донеслись голоса. Почему-то мы вдруг застыли на месте. Послышался мужской голос:
— Опять эти чужаки тут как тут! Будто наши собственные музыканты не терпят нужду!
Мы замерли, слушая, что будет дальше. Какая-то женщина подхватила пронзительным голосом:
— И уж, конечно, еврейка. Эти евреи всюду пролезут...
Вилфред схватил меня за руку. Так крепко, что я ощутила это, хотя вся оцепенела почти до бесчувственности. Я смутно различала его лицо во тьме коридора. Он так загорел, что лицо его почти сливалось с мраком. Я стояла и думала: «Я впервые переживаю это». Конечно, я слыхала о таких вещах: дома, на родине, многое рассказывали. Я вдруг отчетливо услышала отцовский голос: «...только никогда не подавать виду... нипочем не поддаваться...» И бурные возражения моих братьев... И снова низкий, спокойный голос отца: «Ни за что не поддаваться!»
Я стояла и думала: «Вот теперь и мне довелось это пережить. И мне тоже». Одна лишь эта мысль вертелась у меня в голове, и казалось — я всегда знала, что раньше или позже это непременно случится, просто сама оттягивала, из трусости. У меня вырвался тихий стон, потом Вилфред заговорил, и я слышала слова, какими он утешал меня, но не различала их — слышала только звук, нежный, утешительный звук — лучшее средство от слез.
Разговор в зале смолк. Я прошептала:
— Я не пойду туда...
Он шепотом ответил:
— Ты должна. Ты должна сквозь это пройти. Не пройдешь сейчас...
Странно было слышать от него такие слова. Счастье борьбы как будто никогда не вдохновляло его. Впрочем, что я знала о нем?
Но я все стояла, до одурения повторяя: «Я не могу, не пойду». Все завертелось вокруг меня. Я прижала к себе футляр со скрипкой, который Вилфред отдал мне, когда мы вошли в дом. Он предполагал тут же уйти, но почему-то решил проводить меня до самого зала. Может, лучше бы ему не слышать этого? Но, может, он догадывался о том, что меня ждет? Он же всегда обо всем догадывался. Мне вспомнились вдруг газетные заголовки: «Демонстрации против засилья иностранцев». «Туристский автобус на Елисейских полях опрокинут». «Спекулянты валютой...»
Может, то была лишь случайная, вздорная вспышка ненависти к иностранцам в этом гостеприимном городе с неожиданными его причудами? Минувшим летом, в короткий период правления Эррио, франк резко упал в цене. Отдельные американские туристы вели себя вызывающе. Но, конечно, дело совсем не в этом. Не в том, что мы иностранцы...
Растерянно стояли мы в коридоре.
— Если мы сейчас отсюда уйдем, — сказал он, — битва будет проиграна навсегда, ты никогда не станешь выше этого. Ступай сейчас же в зал, а я подожду снаружи, пока не кончится репетиция.
Он говорил со мной, как человек, исполненный зрелой мудрости и заботы, но не как взрослый с ребенком. Я подумала: «Он заслужил, чтобы я его послушалась». Мы по-прежнему растерянно топтались в коридоре. Вдруг распахнулась дверь парадного. Оживленно болтая, вошли оркестранты, они смеялись, шутили. Наткнувшись на нас в темном коридоре, они испуганно отпрянули в разные стороны, извинившись тем детски игривым тоном, каким любят изъясняться французы в ситуациях, представляющихся им пикантными. Нас оттеснили к самой двери, которая вела во внутренние помещения. Поток внес меня в зал, Вилфред едва успел пожать мне руку. Моя рука была холодна как лед.
В зале устроили перекличку, потом очень долго обсуждали репертуар — в течение осени предполагалось дать три концерта, распределили голоса для первой репетиции. Во время переклички я узнавала имена многих талантливых музыкантов, о которых читала в музыкальном журнале, но большинство имен были мне неизвестны. Нас познакомили, все сердечно приветствовали меня. Все весело беседовали друг с другом. Обменивались воспоминаниями.
Я украдкой оглядывалась вокруг, пыталась догадаться — кто же мог произнести те жестокие слова: среди всех этих улыбающихся, бледных, даже измученных лиц я не увидела ни одного, способного внушить подозрение... Может, все это просто мне приснилось?
Но левая рука еще ныла — так исступленно вцепился в нее Вилфред. Синяк на руке долго будет напоминать, что все это и вправду приключилось со мной. А здесь, в зале, я обрадовалась их приветливости и сама была с ними столь же приветлива, и меня осыпали комплиментами за мой красивый загар. Музыканты были будто дети, встретившиеся после каникул. Но когда я, оглядевшись, увидела все эти бледные лица, я сама почувствовала себя чужеродным телом, барыней среди работяг. Я сказала: «В Бретани», и уже от одного этого слова повеяло роскошью. Одна оркестрантка проговорила: «Да, везет некоторым...» Остроносая, маленькая оркестрантка с кларнетом в руках. Может, это она... Я не хотела знать, не хотела больше отгадывать.