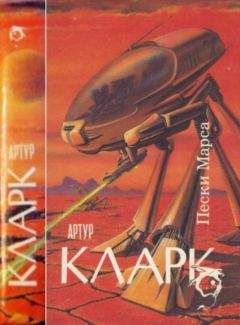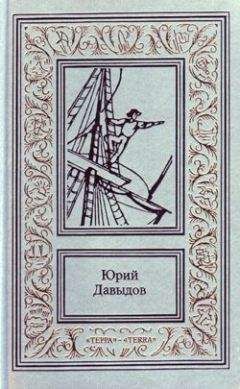Самыми усердными завсегдатаями были Монтина, рантье, высокий красивый малый, типичный южанин, брюнет с бархатными глазами, Барбе, судейский чиновник, два коммерсанта — Фосиль и Лабарег, и маркиз де Флеш, генерал, глава роялистской партии, самое важное лицо в нашей местности, старик шестидесяти шести лет.
Дела наши шли хорошо. Я был счастлив, счастлив вполне.
Но вот однажды, около трех часов пополудни, выйдя по делам, я проходил по улице Сен-Ферроль и вдруг увидел, как из какой-то двери выскользнула женщина, настолько напоминавшая фигурой мою жену, что я сказал бы: «Это она!», — если бы час тому назад не оставил ее в лавке с головной болью. Она шла впереди меня быстрым шагом, не оборачиваясь. И почти против воли, удивленный и встревоженный, я пошел вслед за ней.
Я говорил себе: «Это не она. Нет, не может быть, ведь у нее мигрень. Да и зачем ей было заходить в тот дом?»
Однако мне хотелось удостовериться, и я ускорил шаг, чтобы догнать ее. Почувствовала ли она, угадала, узнала ли мои шаги, не знаю, но только вдруг она оглянулась. Это была моя жена! Увидев меня, она густо покраснела и остановилась, потом проговорила с улыбкой:
— Вот как, и ты здесь!
Сердце у меня сжалось.
— Да. Ты, значит, все-таки вышла? А как твоя мигрень?
— Мне стало лучше, и я решила пройтись.
— Куда же?
— К Лакоссаду, на улицу Касинелли, заказать карандаши.
Она смотрела мне прямо в лицо. Она уже не краснела, скорее была немного бледна. Ее светлые и ясные глаза — ах, эти женские глаза! — казалось, говорили правду, но я смутно, мучительно чувствовал, что они лгут. Я стоял перед ней более смущенный и растерянный, более потрясенный, чем она сама, не смея ничего заподозрить, уверенный, однако, что она лжет. Почему? Я и сам не знал.
Я сказал только:
— Ты хорошо сделала, что прогулялась, если мигрень прошла.
— Да, мне гораздо лучше.
— Ты идешь домой?
— Домой.
Я оставил ее и пошел один бродить по улицам. Что произошло? Пока я стоял с ней лицом к лицу, я инстинктивно чувствовал, что она лжет. Теперь же я не смел этому поверить и, вернувшись к обеду домой, упрекал себя, что мог хоть на секунду усомниться в ее искренности.
Ревновал ли ты когда-нибудь? Впрочем, не в это дело! Первая капля ревности запала мне в сердце. Это жгучая отрава. Я ничего еще не думал, ничего не предполагал. Я сознавал лишь, что она солгала. Подумай только: ведь каждый вечер, когда мы оставались вдвоем после ухода покупателей и служащих — ходили ли мы гулять по набережной в ясную погоду или болтали у меня в кабинете, если было пасмурно, — я всегда раскрывал перед ней всю душу, я отдавался ей весь целиком, потому что любил ее. Она составляла часть моей жизни, главный ее смысл, в ней была вся моя радость. В своих нежных ручках она держала в плену мою доверчивую, преданную душу.
В первые дни, дни сомнений и безотчетной тоски, когда подозрение еще не оформилось и не разрослось, я испытывал недомогание и дрожь, словно при начале болезни. Меня все время знобило, по-настоящему знобило, я не мог ни есть, ни спать.
Зачем она солгала? Что она делала в том доме? Я побывал там, пытался что-нибудь выяснить. И ничего не узнал. Квартирант второго этажа, обойщик, сообщил мне сведения обо всех своих соседях, но ничто не навело меня на след. В третьем этаже проживала акушерка, в четвертом — портниха и маникюрша, в мансардах — два извозчика с семьями.
Почему она солгала? Что ей стоило сказать, что она шла от портнихи или от маникюрши? Ах, как мне хотелось допросить их обеих! Я не сделал этого из боязни, что она будет предупреждена и узнает о моих подозрениях.
Итак, она входила в тот дом и скрыла это от меня. Тут была какая-то тайна. Но какая? Иногда мне приходили в голову самые естественные объяснения — тайная благотворительность, какие-нибудь необходимые ей справки, и я обвинял себя, что смею ее подозревать. Разве любой из нас не имеет права на маленькие невинные секреты, на некую внутреннюю, сокровенную жизнь, в которой никому не обязан давать отчет? Может ли мужчина, взяв в жены молодую девушку, требовать, чтобы она посвящала его во все свои мысли и поступки? Означает ли слово «брак» отречение от всякой независимости, от всякой свободы? Разве не могло случиться, что она ходила к портнихе, не сказав мне об этом, или помогала семье одного из извозчиков? Может быть, она опасалась, что посещение этого дома, хоть и не предосудительное само по себе, вызовет с моей стороны порицание или неудовольствие? Ведь она знала меня насквозь, вплоть до самых скрытых моих причуд, и, может быть, боялась упреков и споров. У нее были очень красивые руки, и я пришел к заключению, что она ходила тайком в тот подозрительный дом делать маникюр и не хотела в этом признаться, чтобы не казаться расточительной. Она отличалась аккуратностью, бережливостью, расчетливостью в мелочах, как и полагается экономной, разумной хозяйке. Она побоялась бы уронить себя в моих глазах, покаявшись в этом маленьком расходе на свой туалет. Ведь в женщинах столько врожденного лукавства, непонятных капризов!
Но все эти рассуждения нисколько меня не успокаивали. Я ревновал. Подозрения мучили меня, угнетали, терзали. Это были даже не подозрения вообще, но одно определенное подозрение. Меня томила тоска, глупая тревога, скрытая еще мысль — да, именно мысль, скрытая завесой, приподнять которую я не решался, ибо под ней таилась страшная догадка... Любовник... Не было ли у нее любовника?.. Подумай, подумай только! Это было неправдоподобно, немыслимо... И все же?..
Образ Монтина то и дело вставал у меня перед глазами. Я видел, как улыбается ей, не спуская с нее глаз, этот высокий фат с лоснящимися волосами, и говорил себе: «Это он!»
Я воображал себе историю их связи. Они говорили о какой-нибудь книге, обсуждали описанное там любовное приключение, нашли нечто общее с собой и воплотили вымысел в жизнь.
Я выслеживал их, подстерегал, испытывая самые унизительные муки, какие может вынести человек. Я купил себе башмаки на резиновой подошве, чтобы ступать бесшумно, и целыми днями спускался и подымался по винтовой лесенке, надеясь застигнуть их врасплох. Часто, перегнувшись через перила, я сползал вниз, — только бы увидеть, что они делают. И потом, убедившись, что они втроем с приказчиком, я вынужден был, пятясь, с невероятными усилиями возвращаться наверх.
Это была не жизнь, а мука. Я не мог ни думать, ни работать, ни заниматься делами. Едва выйдя из дому, не успев пройти и ста шагов по улице, я говорил себе: «Он там» — и возвращался. Его там не было. Я опять уходил, но, отойдя немного, снова думал: «Вот теперь он пришел» — и поворачивал назад.
Так продолжалось целые дни.
По ночам было еще тяжелее, — ведь я ощущал ее около себя, в моей постели. Она лежала рядом, спала или притворялась спящей. Спала ли она? Разумеется, нет. То опять была ложь!
Я неподвижно лежал на спине, ее тело обжигало меня, я задыхался, мучился. О, какое неодолимое искушение, какое упорное постыдное желание встать, взять свечу, молоток и одним ударом размозжить ей голову, чтобы заглянуть внутрь! Я прекрасно знаю, что увидел бы только месиво из мозга и крови, ничего больше. Я не узнал бы ничего. Все равно узнать невозможно! А ее глаза! Когда она смотрела на меня, во мне поднималась дикая ярость. Ты смотришь на нее, она — на тебя. Ее глаза прозрачны, ясны — и лживы, лживы, лживы! И нельзя угадать, какие мысли они таят. Мне хотелось проткнуть их иголкой, уничтожить эти лживые зеркала.
О, как я понимаю инквизиторов! Я защемил бы ей руки в железные тиски. «Говори... Признавайся!.. Не хочешь? Погоди же!..» Я тихонько сдавил бы ей горло... «Говори, признавайся!.. Не хочешь?..» И я давил бы, давил, пока не увидел, как она хрипит, задыхается, умирает... Или я стал бы жечь ей пальцы на огне!.. О, с каким наслаждением я бы это сделал! «Говори... Говори же... Не хочешь?» Я жег бы их на угольях... У нее обгорели бы ногти... и она созналась бы... О, конечно!.. Тогда она бы заговорила!..
Тремулен кричал, стоя во весь рост, сжав кулаки. Вокруг нас, на соседних крышах, приподымались тени, просыпались, прислушивались люди, пробужденные от мирного сна.
А я, взволнованный, охваченный горячим участием, видел перед собою во мраке, как будто знал ее давно, эту маленькую женщину, подвижную и лукавую, хрупкое белокурое создание. Я видел, как она продает книги, как болтает с мужчинами, пленяя их своим детским личиком, я видел, как бродят в ее изящной кукольной головке затаенные мысли, безумные, сумасбродные мечты, грезы модисток, надушенных мускусом и увлекающихся всеми героями бульварных романов. Как и Тремулен, я подозревал ее, презирал, ненавидел, я тоже готов был жечь ей пальцы, чтобы заставить ее признаться.
Он продолжал, немного успокоившись:
— Не знаю, зачем я тебе это рассказываю. Я никому никогда об этом не говорил. Правда, я и не видел никого целых два года. Я ни с кем не говорил по душам, ни с кем! Все это накипело у меня в сердце, вся эта грязь пришла в брожение. Теперь я изливаю ее. Тем хуже для тебя!