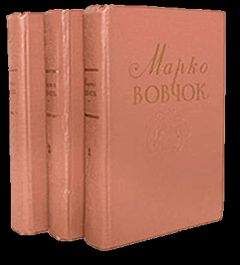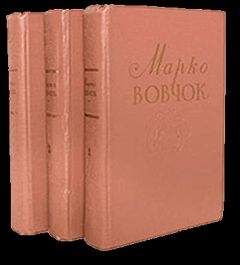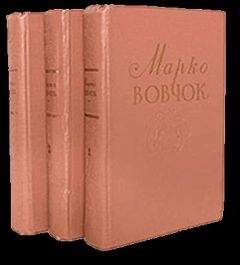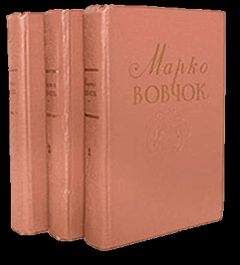— За ламп! За ламп! За голубуй ламп! С серебряным висюлечкам… Карл Иванач знает… Голубуй ламп с висюлечкам…
При этом из окна вагона высовываются немецкие жирные пальцы и быстро движутся, очевидно, стараясь наглядно изобразить «висюлечк».
— Прощай! Пиши! — слышится опять русский голос. — Так через месяц?
— С висюлечкам! Голубуй ламп! Варвар! не забыть, ни за что в свет не забыть! Варвар! Варвар! Где ж ты, Варвар! Ah lieber Gott! [11] Какие это луди! Варвар! Варвар!
— Так через месяц?
— Напиши же!
— Да, да!
— Варвар! Варвар! Du, lieber Gott! [12] Варвар!.
Поезд двигается быстрее. Пассажиры уселись.
Струя свежего, хотя нельзя сказать чтобы животворного воздуха пашет в лицо. По обеим сторонам дороги мелькают бледно-зеленые нероскошные поля.
— Вы в Москву? — обращается с приветливой улыбкой пожилой, белый, раскормленный дворянин к своей соседке.
Во взгляде, в голосе, в каждой складке сытого лица видна особая какая-то ласковость — так называемая московская барская ласковость, за которою провидятся и разные московские барские добродетели: например, ни с того ни с сего закормить и запоить до полусмерти всякого, ничуть не голодного встречного, который (тоже ни с того ни с сего) приглянулся, добродушно оплакивать судьбу «братьев чехов» или «братьев сербов» и сдирать на пожертвования «для славянского единства» с «этого славного, доброго, честного русского народа», с первого слова пускаться в «задушевные речи» и проч. тому подобное.
— Нет, — кратко отвечает соседка.
— В губернию?
— В губернию.
— Но в Москве, конечно, остановитесь, поживете?
— Нет.
— Как же это? Неужто не почествуете нашу старушку белокаменную? Вы давно у нас не бывали? Много, много перемен.
Он вздыхает как-то особенно, — тоже по-московски, — с легким шипением сквозь зубы, и прибавляет с чувством:
— А и теперь еще хорошо!
Он снова вздыхает, прищуривается, задумчиво глядит в пространство, потом, как бы вдруг опомнясь, так же ласково продолжает начатую беседу.
— Вы живали в Москве?
— Нет.
— Неужто? И совсем ее не знаете?
— Случалось бывать только проездом.
— Проездом! Да как же это вы не остановились-то, а? — спрашивает он с грустно-снисходительным упреком. — И не грех? Ведь сердце земли русской! Позвольте спросить, вы разве из коренных петербургских?
— Нет.
— Я это сейчас же угадал! У вас настоящий русский тип… Наш тип, славянский… тип древних русских цариц… Скажите, вы где родились?
— В Малороссии.
— Ну, да! Так и есть! Родное, свое! Малороссия — ведь это меньшая сестра России… Скажите, как же можете вы существовать в Петербурге после ваших роскошных цветущих степей? Как вы, дитя пышной Украйны, не увяли в этом гнилом петербургском болоте?
«Дитя пышной Украйны» несколько сухо отвечает, что чувствует себя в Петербурге очень хорошо.
— Не верю! Не верю! — восклицает он, улыбаясь и помавая белой пухлой рукою. — Не верю! Существо, взросшее под животворными лучами нашей русской Италии… Украйна — это наша Италия. Не верю! Нет, не верю, не верю! Я, мужчина, не могу выносить петербургских миазмов! Я, мужчина, там дышать не могу! Я приехал туда по необходимости, но не вынес: прожил две недели и дальше не мог! Я бросил дела, я бежал из этого вертепа холодного разврата! Ни привета, ни теплого взгляда, ни задушевного слова — везде расчет, везде грязь…
«Дитя пышной Украйны» взглядывает на него и как будто хочет сказать: «За что же это осыпать вас „теплыми взглядами“, „приветами“ и „задушевными речами“?»
Но ничего не говорит и обращает глаза в окно.
— Грязь, грязь и грязь! — продолжает он с благородным отвращением. — Я не могу…
— Москва тоже особой чистотой не отличается, — перебивает его звучный женский голос из противоположного угла вагона.
Звучный голос принадлежит черноглазой, бойкой на вид девушке.
— Вы изволите обращаться ко мне? — спрашивает он, повертываясь и стараясь каждым мускулом лица выразить верх язвительного изумления.
Но черноглазая девушка не обращает на это никакого внимания и, вместо ответа на язвительный вопрос, обзывает Москву «помойной ямой».
— Я нахожу излишним вам возражать, — говорит он после нескольких секунд немой ярости, говорит с наисильнейшим ударением над словом «вам», но очень сдержанным тоном, — я позволю себе только заметить, что, говоря о грязи, я подразумевал грязь нравственную… нравственную-с…
— И нравственной матушке Москве не занимать-стать, и всякой другой-прочей: полным-полнехонько! — отвечает черноглазая девица.
Он глядит на нее с минуту, как вы бы поглядели на безвозвратно обесчестившего и погубившего себя человека, как-то особенно драматично содрогается и, словно все еще не желая верить своим ушам, с усилием произносит:
— Как-с вы сказали?
— Я сказала, что в грязи уличной и «нравственной» матушка Москва белокаменная никому первенства не уступит.
— Позвольте мне заметить, что вы, вероятно, знаете Москву по петербургским слухам?
— Нет, не по слухам. Я сама там чуть не задохлась.
— Чуть не задохлись? Позвольте спросить, какие же условия необходимы для того, чтобы вы могли свободно дышать?
— Такие, какие необходимы для всякой разумной твари!
— То есть коммуны-с?
— Вы пошляк, и с вами не стоит говорить.
Тут он действительно изумляется и содрогается непритворно. Все масло вдруг словно испаряется из его глаз, мясистые щеки бледнеют, и он уж не говорит, а шипит:
— Сударыня! Я москвич! Я москвич и не позволю себе забыться…
Наступает молчание. Все присутствующие встрепенулись и навостряют уши. Черноглазая девица смело и беззаботно перелистывает какую-то книгу.
Москвич старается как можно презрительнее улыбаться.
Непозволительно напомаженный розовой помадой купчик, с русой клинообразной бородкой и алыми щеками, который до того времени все слушал, улыбался и обдергивал свою синюю новую чуйку, кашляет в руку и обращается к черноглазой девице не без некоторой колкости, но любезно:
— Вы уже очень конфузите Москву-с. Нам, москвичам, это огорчительно-с!
— Что ж делать? Я говорю правду.
— Это конечно-с, конечно-с… Только вы-с, по красоте своей и по молодости своей, неправильно видите-с… Москва тоже свое образование имеет-с, будьте спокойны-с! И у нас подвиги-то тоже случаются не хуже питерских! И улицы тоже хорошие имеются-с… Вот-с Тверской бульвар хоть бы взять или хоть Мясницкую… Уж Москва не так простоволоса, как вы заключаете-с. Подвиги-то не то что-с… не хуже питерских, а бывают и почище-с!
Черноглазая девица смеется и спрашивает:
— Какие же это такие подвиги? Расскажите!
— Разные-с! — отвечает купчик, то поглаживая, то покручивая свою клинообразную бородку. — Разные-с! Вот, к примеру сказать, первобытно заключали, что Петербург всегда может обойти Москву, а теперь уже нет — шалишь! Мы сами-с с усами-с!
«Москвич» наклоняется к своей соседке, «дитяти пышной Украйны», причем глаза его снова умасливаются, и говорит ей:
— Люблю русского московского человека! Как он умеет резать матушку правду! Какой у него глубокий смысл!
«Дитя роскошной Украйны» ему не отвечает, восхищения «глубоким смыслом русского московского человека» не выказывает, закутывается в шаль и отодвигается как можно подальше.
— В первобытное время-с, — продолжает купчик все с тою же улыбкою, — заключали так, чтобы Москве учиться у Петербурга большим спекуляциям, а теперь уж, пожалуй, что и Москве-с можно Петербургу уроки и наставления давать-с… Москву теперь не проведешь — шабаш! Вот еще недавно было дело важнейшее-с! Угодно, я вам расскажу весь анекдотец?
— Расскажите, очень обяжете, — отвечает черноглазая девица.
— Извольте слушать-с. Есть у нас в Москве богатейший купец, первый торговец по бакалейной части-с. Жил он всегда благополучно, и все его душевно почитали-с. Дела, разумеется, он вел большие-с, и кредит ему был полнейший. Вот он задает обед всем своим побратимам-с. Все с удовольствием едут-с. Обед пышнейший: вина там этакие заморские, торты и блимаже [13] разные — словом сказать, все, как надлежит богачу-с.
Москвич опять наклоняется к «дитяти пышной Украйны» и шепчет ей:
— Слышите, как говорит? Ведь это своего рода Гомер!
«Дитя пышной Украйны» опять ничего не отвечает, но отодвинуться ей уже некуда.
— Ну-с, обедают все в полном удовольствии-с и пьют за здоровье-с. И вдруг хозяин встает-с и говорит гостям-с:
«Слушайте, гости мои: я каяться буду! Судите меня!»
Все этак усмехаются-с, ожидают, что ему угодно потешить их, побалагурствовать. Кто побойчее, тоже шутки подводят.
«Кайтесь, — говорят ему, — кайтесь, батюшка! Мы суд над вами сию минуту нарядим!»