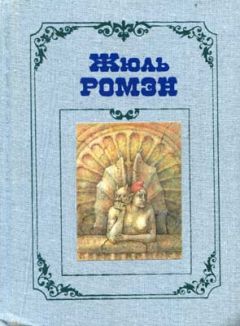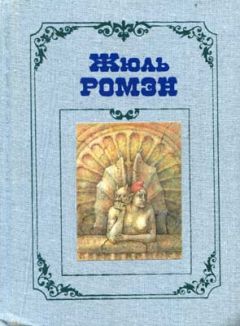Он вышел с почты и отправился в мэрию известить городского врача. Ему было немного грустно; он похвалил себя за то, что так искренне тронут смертью жильца. Понемногу, его грусть стала менее приятным ощущением. У нее был словно привкус горечи и разочарования. Она словно говорила: «И это все? Я ждала большего».
Швейцар почувствовал, что за эти четверть часа его значение убавилось. Уже не он один владел смертью Жака Годара. Эту весть, жужжавшую у него в руке, эту темную муху он выпустил, и теперь ее уже не поймать. Он сожалел о ней, как о привилегии, как о каком-то тайном отличии. Ему казалось, что в течение нескольких мгновений он хранил в себе драгоценную влагу. Конечно, приятно пустить по длинным телеграфным проволокам неожиданную весть. Но было бы еще отраднее законопатить истину, долго знать одному, что человек лежит на дне подземелья, что кого-то не существует и что его труп где-то гниет. Вот удовольствие, которое, должно быть, оставляет себе господь Бог, живущий, впрочем, довольно однообразно; и султан тоже, и царь; может быть даже, иной полицейский.
Швейцар посмотрел на рабочего, на цветочницу, на разносчика. «Умер он или нет, этим вот все равно. Они его никогда не видели; они никогда о нем не будут думать. И есть люди, которых никто не знает, которые умирают сами для себя».
Жак Годар не был больше в своем теле, где черви принялись за работу; но он не был и в этой уличной толпе.
Швейцар чувствовал себя внутри чего-то, — что бы это могло быть? — чего-то такого, куда не проникали женщина в красном и парикмахер. На нем была словно особая атмосфера, словно лишняя одежда. Внизу одного дома была зеленная, густолиственная, переполненная; она била тут, как ключ внизу черной скалы.
Швейцар, всегда здесь покупавший, пересек улицу и вошел в лавку. Он спросил хозяина;
— Как дела?
Потом:
— Слышали?.. Да вы его знали ли?.. У меня сегодня жилец прищурился… я застал его совсем теплым. Вот так штука!
— Он покончил с собой?
— Какое! Простуда, схватил плеврит на той неделе. Звали его Жак Годар… машинист на пенсии.
— Не слышал такого имени. Должно быть, не покупал у нас. А потом, столько видишь народу.
Швейцар не посмел удивиться такому ответу. Он даже был готов к нему. Но он ощутил легкий внутренний толчок, точно от неожиданности, который его почти что взволновал. Он был вроде француза, который, путешествуя по восточной окраине, встречает пограничный столб. Он как раз напал на одну из точек, где Жак Годар переставал быть. Начиная отсюда, можно было смело утверждать, что Годар действительно умер.
Возвращаясь домой, в вестибюле, он встретился с банковским рассыльным из четвертого этажа. Он был не прочь подробно поведать ему о занимавшем его событии. Но промолчал, потому что недолюбливал этого жильца и испытывал неприятное чувство, стоя с ним лицом к лицу.
Он предпочел войти к себе в швейцарскую и отдохнуть. Зеркальный шкаф блестел в глубине комнаты. Он посмотрел в зеркало; так все привычное пространство было очерчено и замкнуто между его телом и отражением его тела.
Покойник был в другом конце дома, наверху. Между простертым трупом и знавшим об этом швейцаром был ничего не знавший дом.
«Я дурак; мне бы надо сказать людям. А я тут сижу себе на стуле. Это старость, и я тоже».
Он пошел прежде всего к мяснику, торговавшему направо от двери и чью сечку и весы он слышал за стеной.
— Вы слышали? Г-н Годар умер сегодня.
— Бедняга!
— По-видимому, он не страдал.
— В его годы с этим не шутят. Оставил он семью?
— И да, и нет. У него еще живы отец и мать.
— Отец и мать? Да что вы!.. Им по сту лет, что ли?
— Надо полагать. Они, чего доброго, умрут от этого.
Он сказал также жильцам второго этажа, семейству в третьем, очень милым людям, потом соседям в пятом. Они вышли на лестницу и собрались в комнате покойного.
Получилось маленькое общество, скучившееся возле стены и двери, довольно далеко от кровати. Швейцар подступил ближе, положил руку на одеяло. Молчали. Слабый и благожелательный свет располагал людей к умилению и пониманию. Рассматривали, без непочтительного любопытства, плоть и черты этого лица, которое теперь уже не означало ничего, кроме самого себя, как очертание камня. Оглядывали комнату, свыкались с обличием предметов; проникались цветом обоев. Расстановка и форма мебели говорили о положениях тела, о позах, отмечали границы ходьбы, направление шагов, берега привычных движений. На этажерке стояли голубая фарфоровая пепельница и ваза из матового стекла с выпуклым изображением цветка; и лиловатый, надувшийся стебель цветка напоминал жилку на виске.
Мало-помалу общество обретало душу отставного машиниста. У всего общества была душа старого машиниста, который сидит у окна, вытряхает трубку над голубой пепельницей, глядит на картинку календаря, или на букет искусственных роз, наполовину потонувший в матовой вазе, или на свежую позолоту рамки. Хотя людей было несколько, каждый ощущал одиночество. Все разом чувствовали себя одиноко. Хотелось сплотиться, сузиться, съежиться, чтобы быть под рост комнате.
Опять посмотрели на мертвого. Под этими взглядами он казался пустым. Теперь его недвижное тело могло не больше, чем шкаф или кресло.
Возвысили голос, словно говорили вместо мертвого:
— Он умер тихо.
— Здесь неплохо жилось. Жаль уходить отсюда!
— Тяжело умирать одному!
— Он хорошо здесь устроился. Светло, уютно. Он смотрел за порядком. Никто не приходил и не пачкал.
— Он редко выходил из дому.
— По воскресеньям он ездил на кладбище.
— Да, он был вдов.
— Он любил свою жену; жалел; он плакал, когда говорил о ней.
— По нем некому будет плакать.
Общество все больше и больше походило на человека, который был живым под этим потолком, среди этой мебели. Воскресали те же мысли, те же слова, даже тот же растянутый звук отдельных слогов. Но общество скоро умерло.
Весь дом стал другой. Еще вчера он не существовал. Семьи жили порознь и бранили хозяина за то, что стены слишком тонкие. Вечером, когда семья беседовала за столом и слышала голоса соседней семьи, она замолкала, сердясь: «Это невозможно! Живешь не дома. Стены из папье-маше». Потом принимались говорить тише.
На лестнице люди встречались, произнося «Извините!», иной раз «Здравствуйте!», а иной раз опуская глаза, чтобы избежать общей мысли. Это была спираль холодного воздуха, издававшая гул морской раковины.
Теперь дом бродил. Из тела Годара, с последним вздохом, вылетела сила, которая была нужна дому.
Встречаясь на лестнице, люди стали раскланиваться. Две женщины даже остановились, прервав свое встречное движение, как если бы то, что должно было перейти от одной к другой, было настолько сильно, что ему мало было простого жеста.
Женщины беседовали, соединив взгляды, слегка заглушенным голосом, чтобы показать, что они вдвоем — нечто внутреннее, тайное, замкнутое:
— Так вы знаете? Бедный…
— Вы не можете себе представить, как это мне было тяжело. Он умер один.
— Один! Как собака.
— Это не называется умереть.
— Помилуйте! Это называется околеть.
Люди кучками задерживались на площадках. С тайной радостью ухватывались за эту смерть. Маленькие сборища многословно жалели Годара.
Хозяйка, отправляясь за покупками, столкнулась с соседкой, выходившей с той же целью. Третья спускалась с верхнего этажа. Соединение произошло:
— Вот уж я была поражена, когда мне утром сказали!
— Бедняга! Умереть неведомо как, ночью.
— У него еще живы родители, вы подумайте!
— Он, по-видимому, не нуждался. Он получал хорошую пенсию.
— Вы не знаете, откуда он родом?
— Из горных мест, кажется.
На звук голосов выходили другие женщины; так как обед у них стоял на плите и они собирались поговорить только минутку, они не брали с собой ключей; но чтобы от сквозняка не захлопнулась дверь, они выдвигали засов наружу, и стальной конец, торча как язык, опирался о наличник, всюду одинаково.
Пока они говорили о старом машинисте, ветер с улицы, через приоткрытые входы, врывался навстречу ветру со двора. Тогда двери настежь отворялись, потом громко хлопали.
Женщины замечали, на миг, угол коридора, красные плитки кухонного пола, кровать в комнате со светлыми обоями.
Так каждая дверь делала как бы прерывистые признания. О соседях узнавалось такое, чего раньше никогда не знали. А у них палисандровая кровать! В кухне нет линолеума. На стене висит распятие с веткой. Так жизнь, прошлое, стремление к счастию, идеал каждой семьи впервые вырывались наружу, становились внешним запахом. Жилища трепетали навстречу друг другу, благодаря мертвому. И все это сливалось на лестнице.
Показался одетый в темное человек, поднимавшийся наверх.
Собравшиеся шепнули: