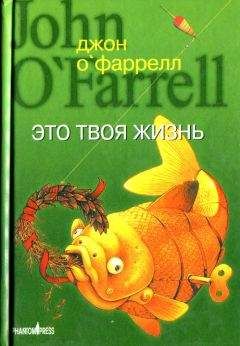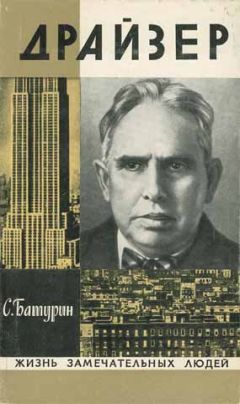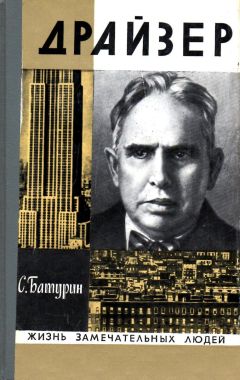— Стой! Стой! Обожди! Ты хоть малость соображаешь или нет? Что ты делаешь? Что я тебе сказал? Положи! Положи сейчас же! Что, у тебя башка совсем уже не варит? Дурак! Болван! Идиот безмозглый!
«Господи, — думал я, — что еще там стряслось?» Можно было подумать, что произошла какая-нибудь катастрофа. Но обычно оказывалось, что до беды еще далеко, — просто вышла небольшая ошибка, хотя и чреватая последствиями, но легко устранимая. Несколько минут итальянцы бегали и суетились, потом все успокаивались, и опять слышно было, как Рурк мелодично насвистывает или напевает себе под нос старинную ирландскую песенку.
Но самое приятное в Рурке было его трезвое отношение к жизни, его непоколебимая уверенность в том, что главное — это работа, не разговоры, не отчеты и не проекты, а непосредственное производство чего-либо вещественного, сама вещь. Правда, пока я у него служил, никакая писанина его вообще не касалась, но если бы даже небеса разверзлись и восемь тысяч главных клерков в сомкнутом строю двинулись на него, требуя заполненных ведомостей и отчетов, он и тогда заставил бы их всех обождать, пока не закончит работу. Однажды мне, в связи все с той же докучной канцелярщиной, понадобилась справка, дать которую мог только Рурк, и я ради этого оторвал его от работы. Он набросился на меня с криком:
— Отчеты! Отчеты! Ну, какой от них толк, скажи, пожалуйста? Работу мне бросать из-за твоих отчетов? Да кабы не эта работа, на кой черт они были бы нужны, твои отчеты!
И я всей душой согласился с ним. Действительно, на кой черт?
Другой обаятельной чертой Рурка было его отношение к подчиненным. Он обращался с ними как друг, почти как отец и хотя бушевал по временам, но потом опять становился приветлив и ласков. Он умел подбодрить людей добродушной шуткой, и это глубоко их трогало. Появляясь утром, он весело кричал:
— Здорово, ребята! Эх, и поработаем сегодня — на славу! Тащи лопаты, Джимми! Давай сюда шнур, Мэтт!
И сам лез в котлован, если проводились земляные работы.
И пока не случалось какой-нибудь заминки, на стройке царили мир и веселье. Скажу попутно несколько слов о Мэтте и Джимми, верных оруженосцах Рурка. Обоим перевалило уже за сорок. Гонимые жизнью бродяги, худые, грязные, огрубелые, бог весть каким ветром занесенные в Америку, претерпевшие бог весть какие злоключения, они имели теперь верный кусок хлеба, пригревшись под крылышком Рурка, который стал для них могущественным покровителем.
Мэтт, смешной маленький итальянец, отличался мягким голосом и деликатными манерами. Рурк его очень любил, но придирался нещадно. Стоило ему спуститься в яму, где работал Мэтт, и тотчас раздавался оглушительный рев:
— Сюда клади! Сюда, говорят тебе! Опускай! Сюда! Сюда! Черт тебя побери! Тупая твоя башка! — Вперемежку с яростными выкриками Рурка слышалось гортанное ворчанье Мэтта, который, видимо, не испытывал никакого страха перед своим начальником и не боялся получить от него затрещину; он уже так давно работал с Рурком, что эти взрывы на него больше не действовали, и он даже отваживался возражать. Иногда, но не каждый раз, Рурк вылезал после этого из ямы красный, как рак, — даже шея у него наливалась кровью, — и кричал: — Я тебя выгоню! Довольно я терпел! Ленивая скотина! Дурак! На что ты годен? Что ты можешь делать? Ни черта! Ни черта! Нет, теперь-то уж я тебя беспременно выгоню! Авось мне поспокойней станет!
Он приплясывал вокруг ямы, рычал и угрожал, пока что-нибудь другое не отвлекало его внимания; тут он сразу успокаивался и опять становился добродушным. Мне кажется, что такие стычки, несмотря на все связанные с этим треволнения, доставляли Рурку удовольствие: он был из тех, кто счастлив, только когда воюет. Бывали случаи, что он уходил домой, не обмолвясь ни единым словом с Мэттом, и мне поначалу казалось, что Мэтту пришел конец. Но вскоре я увидел, что это не так. На следующее утро Мэтт как ни в чем не бывало являлся на работу, а Рурк больше не поминал о прошлом.
Однажды после такой ссоры я спросил у Рурка, сколько раз за последние три года он грозился выгнать Мэтта.
— Ну-у, — ответил он со своей пленительной улыбкой, — не все же в счет идет, что иной раз с языка сорвется.
Однако самым потешным из всей его «команды» был вышеупомянутый Джимми — смуглый уроженец Калабрии, с маслеными глазами и сладким голосом. Он сочетал в себе хитрость Макиавелли с дерзостью стервятника. Жил он по соседству с Рурком в одном из тех отдаленных городков на Харлеме, где ютится множество итальянцев, — Рурк, как наседка, собирал весь свой выводок к себе под крылышко. Джимми считался чем-то вроде слуги, был у Рурка на посылках: за какие качества ему оказали такое предпочтение — неизвестно, во всяком случае, не за расторопность. Как бы то ни было, он вечно бегал с каким-нибудь поручением, в своих полуистлевших, пыльных, болтавшихся на плечах обносках, напоминая какого-то отпетого бродягу, только что вылезшего из сточной канавы. Заставить же его делать тяжелую работу еще никому не удавалось. Такой труд он считал для себя низким и всегда ухитрялся найти иное занятие. Но так как он был специалистом по приготовлению цемента и ловко доставлял инструмент, все сходило ему с рук. Если же кто-нибудь отваживался призвать его к порядку, например, я (к слову сказать, он относился ко мне, как к чужеродному элементу), то он обычно отвечал:
— Ну, ну, я, небось, свое дело знаю. Я, слава богу, с Рурком уже пятнадцать лет работаю. Сам, небось, знаю, чего мне делать.
А если жаловались Рурку, тот усмехался и говорил:
— Ха! Ишь, хитрюга!
Или:
— Вот я ему задам!
Однако никогда этого не делал.
Но однажды Джимми проштрафился: он не выполнил особого поручения, которое возложил на него Рурк, и, хотя его оплошность не причинила никакого существенного вреда, по этому поводу разыгралась очень смешная и характерная для Рурка сценка. В нашей железнодорожной компании существовало строгое правило, гласившее: «Во время установленного расписанием прибытия, стоянки и отправления поезда ни одна яма на станциях или другие углубления, которые могут стать причиной несчастного случая, не должны оставаться открытыми». Рурк это хорошо знал. Соответствующий приказ был давно прислан, и один экземпляр хранился у него в подшивке. Рурк поручил Джимми следить за соблюдением этого правила, — задание пришлось итальянцу по душе, теперь у него было сколько угодно свободного времени, и он мог невозбранно бездельничать, притворяясь, будто следит за поездами. Поэтому он и провинился вдвойне.
Вот как это произошло. Мы работали под платформой в Уильямсбридже, рыли котлован для угольного бункера. В это время с прибывшего на станцию поезда сошел старший мастер — он хотел проверить, много ли уже сделано. Поезд стоял, а рядом зияла открытая яма, на дне которой возился Рурк. Он что-то кричал, размахивая руками, — ему и в голову не приходило, что его приказание могло быть не выполнено. Старший мастер, который, как мне казалось, высоко ценил Рурка, подошел, заглянул в яму и спокойно сказал:
— Так нельзя, Рурк, вы должны прикрывать ямы перед прибытием поезда. Я об этом уже вам говорил.
Рурк взглянул вверх и лишился дара речи — так он был поражен, так сконфужен тем, что попал в столь неловкое положение перед начальством. Начальство он, надо сказать, уважал до благоговения. Секунду он молчал, задыхаясь от гнева, затем громовым голосом стал звать Джимми. Тот прибежал, восклицая, по своему обыкновению:
— Чего? Чего? Чего надо?
— Чего! Чего! — возопил ирландец, весь клокоча от ярости. — А ты, чертова кукла, сам не знаешь? Где тебя носит нелегкая? Почему яма открыта? Ведь говорил я тебе не оставлять ее открытой, когда поезд... И чтоб ничего кроме не делал! А ты! У, разиня! Почему оставил яму? Какого черта!.. Ведь надо ж, мистер Уилсон подходит сюда, а яма открыта!
Он весь взмок, покраснел, как свекла, казалось — его вот-вот хватит удар. Мистер Уилсон, темноволосый, бледный, худой человек унылого вида — бедняга, должно быть, страдал несварением желудка, — все это время стоял рядом, с нарочито суровым выражением лица, но с тенью усмешки на губах. Кажется, все это его забавляло, и он, я уверен, не собирался проявлять строгость.
Оторопевший Джимми не знал, что сказать. Перед лицом такого гнева со стороны Рурка, да еще в присутствии старшего мастера, даже он растерялся: пытаясь загладить свою вину, он бросился прикрывать яму, одновременно что-то лепеча о лопате, за которой он будто бы отошел на минутку.
— Лопата! — взревел Рурк, сверкая глазами. — Лопата! Осел проклятый! Лопату искал! А поезда не видел! Как еще тебя, дурака, не задавило? А яма открыта! А мистер Уилсон тут! Я тебе что говорил? За что я тебе деньги плачу? Слюнтяй! Лопата, а? Вот я тебя пролопачу! Башку тебе проломлю, итальяшка вонючий! Клади доски! Попробуй только еще раз оставить яму открытой, в два счета отсюда вылетишь, чертов идиот!