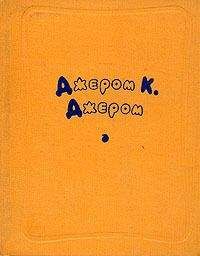И такими глупостями заполнено множество страниц, но именно благодаря этим глупостям наш старый, дряхлый мир, столько веков провисевший в пространстве, еще не прокис окончательно.
Следующая запись, сделанная уже в феврале, содержит продолжение истории:
«Сегодня утром Крис уехал. В последнюю минуту он вложил мне в руки маленький пакетик, сказав, что это самое дорогое, что у него есть, и что, глядя на эту вещь, я должна думать о том, кто меня любит. Я, конечно, догадалась, в чем дело, но развернула пакет только тогда, когда осталась одна в своей комнате. Это был мой портрет, который он так тщательно скрывал от всех, но какой чудесный портрет! Неужели я действительно так красива? Но мне жаль, что он изобразил меня такой печальной. Я целую маленькие губки. Я люблю их за то, что ему нравилось целовать их. О мой любимый! Пройдет много времени, прежде чем ты снова поцелуешь эти губы. Конечно, он поступил правильно, уехав отсюда, и я рада, что ему это удалось. Здесь, в деревенской глуши, у него не было возможности учиться по-настоящему, а теперь он побывает в Париже и в Риме и станет великим художником. Даже глупые здешние жители понимают, как он талантлив. Но пройдет столько времени, прежде чем я увижу его, моего возлюбленного, моего короля!»
После каждого его письма следовали такие глупые восторженные излияния, но чем дальше я читал, тем яснее чувствовалось, что со временем письма от него стали реже и сдержанней, и за каждым словом я угадывал ужасное подозрение, которое она не смела высказать прямо.
«Марта 12. Уже шесть недель от Крис нет ни слова. О боже, как я жажду получить от него весточку, ведь последнее письмо я так целовала, что оно чуть не рассыпалось на кусочки. Надеюсь, он будет писать чаще, когда приедет в Лондон. Я знаю, ему приходится много работать, и с моей стороны эгоистично желать, чтобы он писал чаще; но ведь я предпочла бы не спать целую неделю, чем заставить его ждать письма. По-видимому, мужчины непохожи на нас. Боже, помоги мне, помоги, что бы ни случилось! Какая я сегодня глупая! Ведь он всегда был легкомысленным. Я накажу его, когда он вернется, но не слишком сурово».
Право, история в достаточной степени банальная.
Письма от него продолжали приходить и после этого, но, по-видимому, они становились все холоднее, потому что в дневнике появляется раздражение и горечь, а выцветшие страницы местами хранят на себе следы слез. Далее следует запись, сделанная уже в конце следующего года необычайно четким и аккуратным почерком:
«Теперь все кончено, и я рада этому. Я написала ему, что отказываюсь от него, так как он стал мне безразличен, и я хочу, чтобы мы оба были свободны. Так лучше. Иначе он был бы вынужден просить меня освободить его, а это причинило бы ему боль. Он всегда был так деликатен. Теперь он может со спокойной совестью жениться на ней и никогда не узнает, как я страдала. Она больше подходит ему, чем я. Надеюсь, теперь он будет счастлив. Мне кажется, я поступила правильно».
Здесь пропущено несколько строчек, а затем запись возобновляется более твердым и решительным почерком.
«Зачем я лгу себе? Ненавижу ее! Я убила бы ее, если б могла. Надеюсь, она сделает его несчастным, а он возненавидит ее, как я, и она умрет. Зачем я позволила убедить себя написать это лживое письмо, которое он покажет ей, а она сразу поймет все и будет смеяться надо мной? Я могла заставить его сдержать слово; он не посмел бы отказаться от своего обещания.
Что мне за дело до гордости, девической скромности, правил поведения и прочих лицемерных слов! Мне нужен он. Мне нужны его поцелуи и объятия. Он мой! Он любил меня! Я отказалась от него только потому, что мне было приятно воображать себя святой. Все это только лживая игра. Лучше быть грешницей, лишь бы он любил меня. Зачем я себя обманываю? Он нужен мне. В глубине своего сердца я не желаю ничего, кроме его любви, его поцелуев!» В конце было приписано: «Боже мой, что я пишу? Неужели у меня нет ни стыда, ни силы воли? Боже, помоги мне!»
На этом дневник обрывается.
Я просмотрел письма, лежавшие между страницами. Большинство из них было подписано просто «Крис.» или «Кристофер». Но в одном письме фамилия и имя были поставлены полностью, и оказалось, что я хорошо знаю этого человека, пользующегося большой известностью, и не раз встречался с ним. Мне вспомнилась его жена, красивая женщина с резкими чертами лица, его огромный особняк в Кенсингтоне, представлявший собой наполовину дом, наполовину — художественную галерею, вечно полный разодетых болтливых посетителей, среди которых сам он всегда выглядел непрошеным гостем, вспомнилось его усталое лицо и язвительная речь. Вспоминая об этом, я снова представил себе нежное и печальное лицо женщины, изображенной на миниатюре; наши глаза встретились, и она улыбнулась мне из темноты, а мой взгляд выразил горькое недоумение.
Я достал миниатюру с полки. Если теперь я попытаюсь узнать ее имя, в этом не будет ничего дурного. Я простоял так с миниатюрой в руках до тех пор, пока хозяйка не вошла в комнату, чтобы накрыть на стол.
— Я нашел это, роясь в вашем книжном шкафу, — сказал я. — Эта женщина мне знакома, я встречался с ней, но не могу припомнить где. Вы не знаете, кто это?
Женщина взяла портрет у меня из рук, и на ее высохшем лице появился слабый румянец.
— Я потеряла его, — сказала она, — и ни разу мне не пришло в голову поискать здесь. Это мой портрет, написанный много лет назад одним другом.
Я посмотрел на нее, потом на миниатюру. Она стояла в тени, но лицо ее было освещено лампой, и я словно видел ее впервые.
— Как это глупо с моей стороны, — ответил я. — Да, теперь я улавливаю сходство.
1897