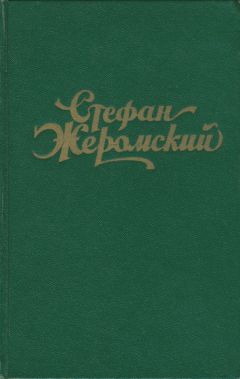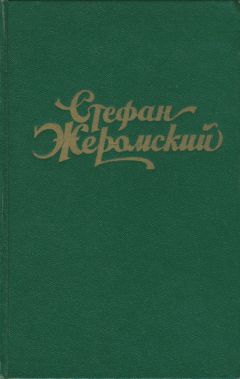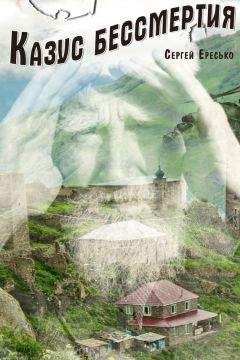«Розлуцкий! Как ты смеешь тут так дерзко стоять! Как ты смеешь смотреть на нас такими глазами! Ты присягал или нет? Что ты сделал с присягой? Отвечай! Присягал ты или нет?»
«Присягал», — говорит тот.
«Присягал? — закричал опять на всю корчму Щукин, колотя по столу кулаком. — А что ты сделал со святой присягой? Убежал из строя к врагу! Верно я говорю или нет?»
«Верно».
«Вместе с другими изменниками ты напал из засады на солдат своего монарха. Ты был главарем изменников, ты давал им самые предательские указания, ты учил их, где и как ударить на нас. Я сам видел нынче ночью, как ты дрался с солдатами своей же роты. Я свидетельствую, что видел, как солдат Денищук ранил тебя штыком. Верно я говорю или нет?»
«Верно».
«Если верно, так ты нам, честным и верным солдатам, не смей смотреть дерзко в глаза! Ты стоишь перед лицом справедливого суда! Твой собственный дядя чинит над тобой суд. Опусти глаза и склони голову, потому что ты изменник и негодяй!»
А тот ему отвечает:
«Я стою перед судом божьим. А ты можешь судить меня своим судом, как тебе угодно».
Щукин сел.
Голосуем. Два голоса за немедленную казнь— Щукин и фон — Тауветтер, два — за отсылку под конвоем в Кельцы. Мне, таким образом, пришлось перетянуть чашу весов. Ну, я и перетянул… — тихо проговорил генерал, качая головой. — Его должны уже были увести. Но тут Евсеенко спросил, нет ли у подсудимого последнего желания. Я дал ему слово. Он посмотрел на меня своими огромными ввалившимися глазами, вперил в меня свой взгляд. Мы все стояли за столом. Он подошел вплотную к столу. Смотрит мне в глаза, а я — ему. Точно два пистолетных дула приставил. Помню его суровые слова:
«Завещаю перед смертью, и это моя непоколебимая последняя воля, чтобы мой маленький шестилетний сын Петр был воспитан как поляк, таким же, как я. Завещаю, чтобы ему, даже если это будет против совести воспитателя, рассказали всё об его отце, о том, как он жил и как погиб. Завещаю ему в свой последний час трудиться на благо своей отчизны и, если придется, умереть за нее без страха и трепета, без единого вздоха сожаления, так, как я. Все».
Он отдал нам по — военному честь.
Его вывели.
День стал пробуждаться. Я ушел в боковушку, где должен был спать в эту ночь. Растворил окно. Начинало уже светать. Утро… Напротив, через дорогу, шестеро солдат торопливо рыли заступами в песке могилу. Я отошел в глубь комнаты. Отвернулся лицом к стене. Боже мой!.. Было уже светло, когда я снова подошел к окну. Я мог уже смотреть на все спокойно. На куче песка под охраной двенадцати солдат с ружьями к ноге он спокойно сидел боком ко мне. С него уже сняли повстанческую куртку. Он был в одной рубахе, разорванной на груди. Между коленями он держал, зажав в руке, маленькую карточку сына Петруся. Голова его свесилась на грудь, прядь волос упала на лоб, глаза впились в портрет сына.
Из‑за угла корчмы вышел взвод солдат из его же роты. Выстроился напротив. Командовал фон — Тауветтер. Солдаты с ружьями к ноге. Стоят. Прошла минута, вторая, третья… Жду. Жду, когда Тауветтер даст команду. Ни звука, молчание. Ни звука. Молчание. Он не может дать команду. Тот все сидел, впившись глазами в портрет. Мне почудилось, что он уже умер. На мгновение мне стало легче. Жду. Но вот он поднял голову, словно тысячепудовую тяжесть. Стал на куче песка. Ноги у него разъехались, зарываясь в сыпучий песок, но он тут же постарался стать ровно. Оглянулся, откинул волосы со лба и посмотрел на солдат. Слава богу, на лице его снова появилась та косая улыбка, то презрительное выражение, с которым он смотрел на нас на суде. Я видел, как мало — помалу принимают это выражение его лицо, глаза, лоб. Я был счастлив, что с этим выражением, с гордостью… что он Розлуцкий… Я чувствовал, как усилием воли он обращает себя в бесчувственный труп, как преображается на глазах.
«Здорово, ребята!» — крикнул он.
«Здравия желаем, ваше благородие!» — рявкнул взвод, как один человек.
Подошел Евсеенко, чтобы завязать ему глаза. Он остановил фельдфебеля взглядом. Тот отошел. Он прижал к груди маленький портрет, закрыл глаза. Прекрасная, вдохновенная улыбка заиграла у него на губах. Я тоже закрыл глаза… Прижался грудью к стене. Жду, жду, жду. Наконец — бах!..
Землемер Кнопф снял фуражку и что‑то шептал сухими губами. Гунькевич ковырял палкой в золе костра, точно хотел зарыть в ней обильные пьяные слезы, капавшие у него из глаз.
Воцарилось молчание. Эхо отдавалось в лесистых горах… Вдруг гминный писарь обратился к генералу с вопросом:
— Позвольте спросить, ваше превосходительство, а где же, к примеру, сейчас этот маленький сыночек, этот Петрусь, которому в ту пору было шесть лет?
— А тебе зачем знать, где он? — грубо и жестко оборвал его генерал.
— Любопытно было бы узнать, исполнены ли последняя воля и завещание того повстанца.
— Не твое это дело, и не смей лезть ко мне с такими вопросами, слышишь!
— Я и так сразу догадался, — ответил писарь, с дерзкой насмешкой глядя своими плутовскими глазами прямо в глаза старому генералу, — я и так сразу догадался, что здорово, должно быть, посмеялся дьявол над твоей последней волей, капитан Рымвид.
Гмина — низшая сельская административно — территориальная единица в Польше.
то есть медалью, учрежденной Александром II в 1864 г. после подавления польского национально — освободительного восстания.
Генерал Розлуцкий так называет польское национально — освободительное восстание 1863–1864 гг.
Имеется, в виду вооруженная интервенция царских войск против революционной Венгрии в 1849 г.