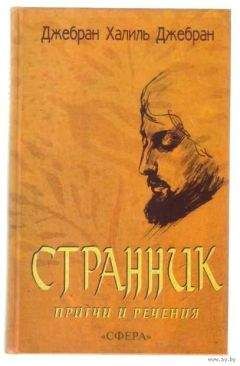Через минуту экипаж остановился перед воротами уединенного дома, окруженного просторным садом, благоухающим розами и жасмином, с изгородью из колючего кустарника.
Едва я сделал несколько шагов по саду, как в дверях дома появился Фарис Караме, который вышел мне навстречу, как будто стук колес в этом уединенном уголке оповестил его о моем приезде. Он радостно приветствовал меня и пригласил в дом, где усадил рядом с собою и, подобно заботливому отцу, принялся расспрашивать; его занимало все, что касалось меня, - и мое прошлое, и будущее. Я отвечал ему в том тоне, исполненном грез и надежд, в каком поют свою песнь юноши, пока волны фантазии не выбросят их на берег жизни - навстречу борьбе и труду...
У юности крылья с перьями из поэзии и нервами из иллюзий; на них она возносится в заоблачные выси, откуда мир видится в свете, окрашенном всеми цветами радуги, а жизнь звучит гимнами величию и славе, но бури опыта ломают поэтические крылья, и юность опускается на землю - в мир, похожий на кривое зеркало, где каждый отражается в искаженном виде...
И вот из-за бархатной портьеры появилась девушка в платье из тонкого белого шелка. Она не шла, а, казалось, плыла прямо ко мне. Я встал; поднялся и старик.
Это моя дочь Сельма, - сказал Фарис Караме. Представив же меня, он ласково пояснил:
- Время укрыло от меня старого друга, и теперь он снова передо мной в облике сына. Так я вижу отца, хотя его и нет с нами.
Девушка пристально посмотрела мне в глаза, как бы стремясь узнать, кто я, и угадать причину моего прихода, затем, сделав еще шаг, протянула мне руку, белую и нежную, как полевая лилия, и прикосновение ее ладони наполнило меня неким странным чувством, чем-то напоминавшим поэтическую мысль при ее зарождении в воображении поэта.
Мы сели в молчании, как будто с приходом Сельмы в гостиной появился некий вышний дух, внушающий безмолвное благоговение. Словно почувствовав это, она обратилась ко мне с улыбкой:
- Отец часто рассказывал о твоем родителе. Для меня не секрет истории их юности. Если такие же рассказы ты слышал и от своего отца, значит, эта встреча - не первая между нами.
Старика порадовали ее слова, и на его лице появилось выражение удовольствия.
- По натуре и воспитанию Сельма идеалистка, - сказал он.-Она видит все вещи погруженными в мир души.
Фарис Караме, говоря со мной был исполнен полнейшего внимания, и бесконечной нежности. Казалось, он открыл во мне волшебную тайну, с которой на крыльях воспоминаний вернулся к весне своей жизни.
Он не отрывал от меня глаз, воскрешая призраки своей юности; я же, наблюдая за ним, погружался в мечты о будущем.
Взгляд его оберегал меня, как ветви осеннего дерева, увешанного плодами,— хрупкий росток, полный спящей силы и слепой жизни. Старое дерево, прочно ушедшее в землю корнями, испытало на своем веку зной лета и стужу зимы, бури и непогоды времени, а нежный и слабый росток знал только весну и вздрагивал от одного дуновения утреннего зефира.
Сельма же молча смотрела то на меня, то на отца, будто читая первую и последнюю из глав романа жизни.
Заканчивался день, дыхание которого замирало в рощах и садах, заходило солнце, оставляя следы огненного поцелуя на вершинах Ливанских гор, у подножия которых стоял этот дом, но Фарис Караме продолжал рассказывать удивительные истории, я радовал его мелодиями своей юности, а Сельма неподвижно сидела у окна, глядя на нас своими грустными глазами. Она молча слушала наш разговор, будто зная, что красота обладает даром небесной речи, обходящейся без звуков и слов, даром бессмертной речи, в безмолвии которой слиты все людские голоса, как пение ручейков — в вечно молчащих глубинах тихого озера. Красота есть тайна, постигаемая нашими душами, что ликуют и ширятся, отдаваясь ее власти, а разум в недоумении останавливается перед нею, не в силах дать ей определение и воплотить в слова.
Подлинная красота — это скрытый поток частиц между чувствами видящего и истиной видимого; это — излучение святая святых души, озаряющее внешность человека: так жизнь из глубин семени обращается красками и ароматами цветка; это — полное понимание между мужчиной и женщиной: возникнув мгновенно, оно порождает высочайшее стремление — ту духовную близость, которую и называют любовью. Открылся ли моему духу дух Сельмы, что сделало ее для меня прекраснейшей женщиной на свете, или виной всему — опьянение молодости, рисующее в воображении несуществующие образы и черты? Юность ли ослепила меня, и я представил себе блеск глаз Сельмы, сладость ее уст и тонкость стана, или же ее красота и в самом деле открыла мне глаза для познания радостей и печалей любви?
Не знаю. Помню лишь, что меня охватило чувство, которого я не знал прежде, - новое чувство, которое тихо обволакивало сердце, как дух, что витал над водами перед началом вечности. Оно-то и с гало причиной моих радостей и моих несчастий, как воля вышнего духа - началом всего сущего.
Такова была моя первая встреча с Сельмой. Небо волею своею неожиданно избавило меня от рабства сомнений, присущих юности, и увлекло, свободного, в шествие любви, а ведь любовь - единственная свобода в этом мире, ибо она поднимает душу к вершинам, недоступным для людских традиций и обычаев, как и для законов и велений природы.
На прощание Фарис Караме сказал с подкупающей искренностью.
- Теперь ты знаешь дорогу. Навещай же нас, и пусть этот дом станет для тебя отчим домом. Во мне ты нашел отца, а в Сельме -сестру. Не правда ли, дочь моя?
Кивнув в знак согласия, Сельма посмотрела на меня таким взглядом, как если бы, затерявшись на чужбине увидела вдруг в толпе хорошо знакомое ей лицо.
Слова Фариса Караме стали первой мелодией, которая привела нас с Сельмой к трону любви; прелюдией небесного гимна, перешедшего в скорбный плач, силой, которая наполнила отвагой наши души, приблизив к огню и свету; чашей, из которой мы испили вод Кяусара и настоя горькой полыни.
Старик вышел со мною в сад. При прощании сердце мое билось так же сильно, как дрожат губы жаждущего, касаясь краев сосуда, наполненного влагой.
В апреле я часто бывал в доме Фариса Караме и виделся с Сельмой. Обычно мы сидели друг против друга в саду, и я любовался её красотой, восхищался одаренностью и вслушивался в безмолвие ее грусти, чувствуя, как невидимые руки притягивают меня к этой девушке. С каждой встречей я открывал новые прелестные черты в ее облике, новую возвышенную тайну ее духа, и она в моих глазах уподобилась книге: пробегая строку за строкою, я заучивал их наизусть, беспрестанно повторял нараспев и никак не мог дочитать до конца.
Женщина, которую боги одарили красотой души, соединенной с красотою тела, - это и явь, и загадка. Истина ее открыта тем, кто смотрит на нее глазами чистоты и любви, но спрятана в тумане смятенной растерянности от жаждущих описать ее словами.
Сельма Караме была красива душой и телом. Как описать ее тем, кто ее не знал? Может ли осененный крыльями смерти представить трель соловья, шепот розы, дыхание ручья? Может ли узник, закованный в цепи, внимать дуновению утреннего зефира? Но разве молчание не труднее слов? Разве благоговение запрещает мне описать простыми словами один из образов Сельмы, если я не в силах изобразить ее такой, какой она была, в строках из золота? Голодающий, блуждая в пустыне, довольствуется сухим хлебом, если небеса не посылают ему манны и утешения.
При взгляде на Сельму, тоненькую и стройную, в белом шелковом платье, казалось, будто в комнату через окно проник луч лунного света. Ее плавные, медлительные движения чем-то напоминали ритм исфаханских мелодий. Она говорила мягким и нежным голосом, прерываемым вздохами, и звуки слетали с ее алых уст, словно капли росы с коронки цветка при малейшем колебании воздуха. А ее лицо... Кто мог бы описать лицо Сельмы Караме? Какими словами изобразить спокойное, грустное лицо, как бы спрятавшееся под прозрачным покровом бледности и в то же время открытое? Где язык, каким описать черты, что являют одну за другой тайны ее души, напоминая тому, кто смотрит на нее, что есть и иной мир, помимо этого мира!
Красота Сельмы не отвечала канонам, установленным людьми для прекрасного. Скорее она была странной, как греза или видение, как вышняя мысль, чуждая определению и мере, неподражаемая для кисти художника, невоплотимая для резца ваятеля. Красота Сельмы включалась не в золотистых волосах, а в окружающем их ореоле невинности, не в больших глазах, а в том свете, что струился из них, не в алых устах, а в присущей им сладости, не в белоснежной шее, а в манере слегка наклонять голову.
Сельма была красива не совершенством пропорций, а благородством духа, подобным белому пламени, парящему между землей и бесконечностью. Красота Сельмы была чем-то близка тому поэтическому гению, чью печать носят возвышенные поэмы, неумирающие полотна и мелодии. Удел же отмеченных гениальностью - несчастье, ибо как высоко ни воспарят их души, облачением их служат слезы.