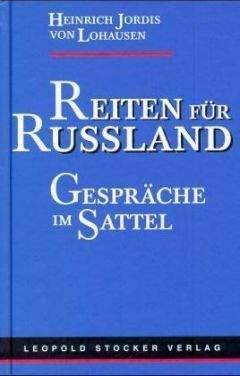Эта сторона вопроса прекрасно, отмечена в книги г-жи Зутнер. Говоря о будущей войне, об этом ожидаемом «гигантском погроме», она совершенно верно замечает: «Помощь раненым и уход за ними будут почти невозможны; санитарные меры, доставка необходимого провианта будут казаться насмешкою в сравнении даже с самыми скромными требованиями. Будущая война, о которой многие говорят так спокойно, не может быть выигрышем для одних и потерею для других: она будет одинаково гибельна для всех». Теперь, когда результаты, к которым приводит тройственный союз, вполне выяснились, когда Европа разделилась на два враждебные лагеря и подсчитываешь миллионные армии (полная мобилизация поставит на ноги до 12 миллионов солдат), которые она выставит в поле в качестве пушечного мяса для усовершенствованных в небывалой степени орудий, на этот счет не может быть уже сомнения. Ознаменуется ли конец просвещенного девятнадцатого века или начало двадцатого таким поголовным истреблением цвета молодежи, лучших сил народа? Трудно этому поварить. Но, в таком случае, какой же смысл имеют все эти грандиозные вооружения, истощающие и в мирное время европейские народы? Если никто не решается принять на себя ответственность за «гигантский погром», если люди, даже жестокосердые, содрогаются при одной мысли о нем, то к чему же вооружаться, к чему тратить миллиарды (до 4 миллиардов в год) на бесконечные вооружения, совершенно бесцельные, если в конце концов не имеется в виду война? Говорят о взаимном устрашении. Но, как выяснил опыт, и эта цель не достигается: создаются только все новые союзы, возрастают только и так уже непосильные расходы на вооружение, а положение дел остается прежним. Никто не устрашается, никто не отказывается от своих требований, и в результате получаются только бесчисленные денежный жертвы, напряжение всех экономических сил для целей совершенно непроизводительных.
Таким образом надо во что бы то ни стало найти выход из теперешнего безотрадного международного положения. Но этот выход не будет найден раньше, чем во всех государствах не установится твердая решимость ни в каком случае не прибегать к оружию для устранения господствующего ныне кризиса. Мы еще далеки от этого, и все продолжающиеся вооружения служат тому печальным доказательством. Чтобы эти вооружения могли прекратиться, необходимо одновременное сознание всех народов об их бесцельности, и все, что способствует распространенно этого сознания, — великое благо. Пусть книга г-жи Зутнер будет протестом против войны преимущественно только с точки зрения гуманных чувств, но во всяком случай это — протест пламенный, красноречивый, много говорящий сердцу и даже уму. При том это протест человека, нисколько не склонного ниспровергать существующее для создания более светлого будущего. Не даром австрийские государственные люди рекомендовали книжку г-жи Зутнер, как назидательное чтение для всех, кто склонен увлекаться новою европейскою войною. Опыт, вынесенный народами из целого ряда войн в короткий промежуток каких-нибудь одиннадцати лет и столь рельефно отмеченный в книге г-жи Зутнер, не поощряет к новым военным подвигам, напротив удерживает от них всею силою бесчисленных человеческих страданий. Чем более широкое распространение получат такие книги, чем сильнее народы одновременно проникнутся теми чувствами, которыми они продиктованы, тем более будет вероятия, что даже самые воинственные элементы в западной Европе не решатся на войну.
Р. Сементковский.
В семнадцать лет я была очень экзальтированной девочкой. Конечно, мне было бы трудно судить об этом теперь, не будь передо мною моего старого дневника. Но в нем верно сохранились давно рассеявшиеся иллюзии, юношеские мысли, никогда больше не приходившие в голову, чувства, переставила волновать меня с тех пор, так что эти уцелевшие листки дают мне ясное понятие о незрелом восторженном миросозерцании, сложившемся в моей неразумной, хорошенькой головке. Порукой в моей красоте служат опять-таки прежние портреты, тогда как теперь зеркало очень мало рассказывает мне о былой прелести юношеских лет. Могу себе представить, какой счастливицей казалась многим молоденькая графиня Марта Альтгауз, окруженная блестящей роскошью и слывшая одною из самых обворожительных девушек в аристократическом кругу Вены! А между тем страницы ее дневника — в красной обложке — дышат чаще меланхолиией, чем светлым, жизнерадостным чувством счастливой юности. Интересно было бы знать, основывалось ли это, действительно, на моем неумении ценить редкие преимущества своего завидного положения, или же на том, что только одни меланхолические мысли казались мне благородными и достойными чести попасть в заветную красную тетрадку, куда я заносила их в самых витиеватых выражениях? Решить этот вопрос в настоящее время было бы трудно, но из дневника, по крайней мере, ясно видно, что моя участь не удовлетворяла меня. Между прочим, там говорится:
«О, Иоанна д'Арк, избранная небом героиня-девственница, как хотелось бы мне идти по твоим следам: со знаменем в руке водить на бой храбрые дружины, короновать своего короля, а потом умереть за дорогую отчизну!»
Однако мне решительно не представлялось случая удовлетворить таким скромным запросам от жизни. Точно так же недоступна была для меня и участь христианских мучениц, растерзанных львами в цирке (пламенное желание найти подобную смерть занесено в дневник 19-го сентября 1853 г.); значит, мне оставалось только изнывать под гнетом сознания, что великие подвиги, которых жаждала моя душа, так и останутся не совершенными, что моя жизнь в сущности — пропадет задаром. Ах, зачем я не явилась на свет мальчиком! (также часто повторявшийся в красной тетрадке бесплодный упрек судьбе). Тогда я могла бы избрать себе возвышенную цель и совершить много полезного. История приводить слишком мало примеров женского геройства. Как редко случается женщинам иметь сыновьями Гракхов, или вынести на плечах мужей из осажденного города, или вырвать у мадьяр, в пылу воинственного воодушевления, приветственный клик: «да здравствует Мария Терезия, наш король!» Но мужчине следует только препоясать меч и броситься на врага, чтобы добыть славу и лавры, завоевать себе трон, как Кромвель, или завладеть целым миром, как Бонапарт! Я помню, что высшее понятие о человеческом величии олицетворялось для меня в военном геройстве. Ученые, поэты, путешественники, открывшие неизвестные страны, конечно, внушали мне также некоторое почтение, но поклоняться я могла только одним завоевателям. Только они по преимуществу двигали историю, направляли судьбу народов; в моих глазах, эти люди, по своему важному значению, по своему благородству и величию, равнявшему их почти с богами, настолько превосходили прочих смертных, насколько вершины Альпов и Гималая выше цветов и трав долины.
Но изо всего этого еще не следует заключать, чтоб я обладала геройской натурой. Дело объяснялось гораздо проще: я была увлекающимся, пылким созданием, и, разумеется, поклонялась тому, что особенно превозносили мои учебники и близкие мне люди. Отец мой был генералом австрийской армии и сражался под Кустоццой под предводительством «старика Радецкого», которого боготворил. Каких только анекдотов из походной жизни не наслушалась я с младенческих лет! Добряк папа так гордился своими военными подвигами и с таким удовольствием рассказывал о кампаниях, в которых принимал участие, что я невольно стала относиться с сожалением ко всякому статскому. Как обидно для женского пола, что его не допускают до этих высоких подвигов чести, что из круга женских обязанностей исключен священный долг проливать кровь за отечество! Когда до меня доходили слухи о стремлениях женщин к равноправности, — а во время моей молодости об этом толковали обыкновенно с насмешкой и порицанием, — я понимала женскую эмансипацию только в одном направлении: мне хотелось, чтобы женщины имели право носить оружие и воевать. Ах, в какой восторг приводили меня страницы из всеобщей истории, где говорилось о Семирамиде или Екатерине II: «она вела войну с тем или другим из своих соседей и завоевала такую-то и такую-то страну!»
История, в том виде, как она преподается юношеству, внушает особенный энтузиазм к войне. Занимаясь этим предметом, ребенок рано привыкает думать, будто бы государи только и делают, что дают сражаются, что война необходима для развития государства, что она — неизбежный закон природы и непременно должна разгораться от времени до времени, потому что от нее нельзя уберечься, как от морских бурь и землетрясений. Конечно, с ней связаны различные ужасы и бедствия, но все это искупается вполне: для массы — важностью результатов, для отдельных личностей — блеском славы и сознанием исполненного долга. Где можно найти самую прекрасную смерть, как не на поле чести, и что может быть благороднее бессмертия героя? Все это выступает как нельзя более рельефно в каждом учебнике, в любой школьной книге для чтения, где, наряду собственно с историей, представленной в виде длинной вереницы войн, приведены рассказы и стихотворения, воспевавшие военную славу. Такова уж патриотическая система воспитания! Из каждого школьника должен выйти будущий защитник отечества, и потому необходимо возбуждать в ребенке восторженное чувство, говоря ему о первом долге гражданина; нужно закалить его дух против естественного отвращения, вызываемого ужасами войны. Вот с этой-то целью воспитатели и учебные книги толкуют о страшнейших кровопролитиях и бесчеловечной резне самым развязным тоном, как о чем-то вполне обыкновенном, неизбежном, выдвигая на первый план только идеальную сторону войны, этого древнейшего обычая народов. Таким путем нам удается воспитать храброе и воинственное поколение.