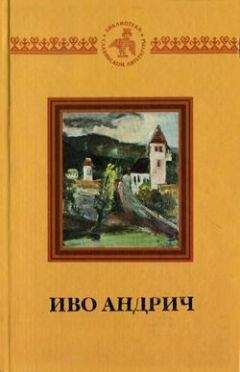Да, Босния – страна ненависти. Вот что такое Босния. И вот странный контраст (по сути дела, ничего странного тут нет, и возможно, пристальный анализ позволил бы все это объяснить), точно так же можно сказать, что мало стран, где в людях столько твердой веры, возвышенной стойкости характера, столько нежности и умения любить, где есть такая глубина переживаний, привязанностей и непоколебимой преданности, такая жажда справедливости! Но под всем этим где-то в глубине скрываются вулканы ненависти, целые лавины накопившихся ее запасов, зреющих в ожидании своего часа. Соотношение между вашей любовью и вашей ненавистью точно такое же, как между вашими высокими горами и в тысячу раз превосходящими их невидимыми геологическими наслоениями, на которых они покоятся. Так и вы все осуждены жить, опираясь на толстые слои взрывчатого вещества, время от времени возгорающиеся от искр вашей любви, ваших пламенных, безудержных страстей. И наверное, самое большое ваше горе в том, что вы и не догадываетесь, сколько ненависти вросло в вашу любовь, в ваши привязанности, в традиции и религиозные верования. И также, как почва, по которой мы ступаем, оказывает под воздействием тепла и атмосферной влаги влияние на наши тела, определяя цвет нашей кожи и внешний облик, – точно так интенсивная, невидимая, подземная ненависть, которой пропитана вся жизнь боснийца, незаметно, окольными путями проникает во все его поступки, даже самые лучшие. Всюду в мире порок порождает ненависть, ибо порок растрачивает, не возмещая, и разрушает, не создавая, но в странах, подобных Боснии, даже достоинства часто говорят языком порока, действуют его руками. У вас аскеты на основе своего аскетизма приходят не к любви, а к ненависти, к сладострастию; трезвенники питают ненависть к пьяницам, а в тех, кто пьет, рождается убийственная ненависть ко всему миру. Верующие и любящие смертельно ненавидят неверующих или тех, кто верует иначе или любит по-другому. И, к сожалению, часто расходуют на эту ненависть основной запас своей веры и любви. (Нигде не встретишь столько озлобленных, мрачных лиц, как на богомолье, у святых мест, в монастырях.) Угнетающие и эксплуатирующие бедных вкладывают в эксплуатацию еще и ненависть, и это делает ее в сто раз тяжелее и безобразнее, а те, кто терпит несправедливость, мечтают о справедливости и о мести как о взрыве такой силы, который вместе с гнусным угнетателем разнес бы и угнетенных. Большинство из вас имеет обыкновение приберегать ненависть для того, что поближе. Ваши обожаемые святыни, как правило, находятся за тридевять земель, а предмет вашего отвращения и ненависти – рядом, в том же городе, за стеной вашего дворика. Ваша любовь не требует действия, в то время как в ненависти вы весьма легко переходите к делу. И землю свою родную вы любите жаркой любовью, но только тремя-четырьмя различными способами, друг друга исключающими, находящимися в смертельной вражде и без конца сталкивающимися между собой.
В одном рассказе Мопассана дионисийское описание весны заканчивается словами, что в такие дни следовало бы расклеивать на углах объявления с таким текстом: «Французский гражданин, весна идет, берегись любви!» Быть может, в Боснии следовало бы предупреждать людей, чтобы они на каждом шагу, в каждой своей мысли и в любом, самом возвышенном чувстве остерегались ненависти, врожденной, бессознательной, эндемической ненависти. Ибо этой отсталой и бедной стране, в которой, теснясь, живут четыре разных религии, нужно в четыре раза больше любви, взаимопонимания, терпимости, чем другим. В Боснии же, наоборот, непонимание, время от времени переходящее в открытую вражду, является чертой почти всех жителей. Пропасть между разными религиями столь глубока, что преодолеть ее удается порой лишь ненависти. Я знаю, мне на это ответят, и не без основания, что в этом отношении заметен все же определенный прогресс, что идеи девятнадцатого века и здесь сделали свое дело, а теперь, после освобождения и объединения страны, дело пойдет намного лучше и быстрее. Боюсь, что это не совсем так. (За последние несколько месяцев я достаточно наблюдал в Сараеве отношения людей разных религий и народностей!) Теперь на каждом шагу будут говорить и писать по любому поводу: «Брат есть брат, какой бы он ни был веры», «Важно не кто каким крестом крестится, а чья кровь стучит в его груди», «Уважай чужое, а своим гордись», «Национальное единство не знает ни религиозных, ни племенных различий». Но ведь в боснийских верхах издавна хватало лживой вежливости, привычки обманывать себя и других звучными словами и пышными церемониями. Это может прикрыть вражду, но не устраняет ее и не препятствует ее росту. Я опасаюсь, что под прикрытием современных лозунгов в этих кругах дремлют прежние инстинкты и каиновы замыслы, и так будет продолжаться до тех пор, пока не изменятся полностью основы материальной и духовной жизни в Боснии. А когда наступит это время, у кого хватит сил на это? Когда-нибудь и это свершится, я верю, но то, что я увидел в Боснии, не говорит о том, что она уже сейчас идет по упомянутому пути. Напротив.
Я много размышлял об этом, особенно в последние месяцы, пытаясь побороть в себе решение навсегда оставить Боснию. Естественно, что у человека, обуреваемого подобными мыслями, плохой сон. Я лежал, не в силах сомкнуть глаз, у открытого окна, в комнате, в которой я родился, снаружи шумела река, ветер шелестел еще обильной листвой.
Тот, кто в Сараеве проводит ночи без сна, может услышать все ночные голоса. Тяжело, уверенно бьют часы на башне католического собора: два часа пополуночи. Проходит немногим более одной минуты (я считал, ровно семьдесят пять секунд), и тогда бьют немного тоньше, но пронзительно часы на православной церкви, отмечая свои два часа пополуночи. Вслед за ними глухо, словно издалека, отбивают часы на башне мечети, причем отбивают одиннадцать часов – призрачные турецкие одиннадцать часов, согласно странному счету времени чужой, далекой страны. У евреев нет своих часов с боем, и одному только богу немилостивому известно, который час у них и по какому счету времени – сефардов или ашкенази. Даже ночью, когда все спит, когда текут глухие ночные часы, не дремлет рознь, разделяя сонных людей, которые, проснувшись, радуются и печалятся, постятся и говеют по четырем враждующим календарям и воссылают к небу молитвы на четырех разных языках. И эта рознь то явно и открыто, то незаметно и исподтишка сливается и отождествляется с ненавистью.
Эту специфическую боснийскую ненависть следовало бы изучать и искоренять, как опасную и глубоко укоренившуюся болезнь. И я верю, что, будь ненависть признанной и классифицированной болезнью, как, например, проказа, иностранные специалисты приезжали бы изучать ненависть именно в Боснию.
Я и сам думал было заняться этим и, анализируя ненависть и вынося ее на всеобщее обозрение, способствовать ее искоренению. Быть может, это даже мой долг, поскольку я, хоть и иностранец по происхождению, появился на свет в этой стране. Но после первых попыток и долгих размышлений я убедился, что у меня нет для этого ни способностей, ни сил. От меня, как и от всех прочих, требовали стать на определенную сторону, ненавидеть и быть ненавидимым. Я не захотел этого и не сумел. Быть может, если уж такова моя судьба, я согласился бы еще пасть жертвой ненависти, но жить окруженным ненавистью, да еще и участвовать в ней – это свыше моих сил. В стране же, подобной сегодняшней Боснии, тот, кто не умеет или, еще хуже, тот, кто не хочет ненавидеть, чужак и выродок, а чаще – мученик. Это относится и к вам, коренным боснийцам, а что уж говорить о людях иного происхождения!
Вот так, тихой осенней ночью, слушая удивительную перекличку разноголосых сараевских часовых башен, я однажды пришел к заключению, что не могу остаться на своей второй родине, в Боснии, и не должен оставаться. Я не настолько наивен, чтобы по всему миру искать город, где нет ненависти. Мне просто нужно место, где я мог бы жить и работать. Здесь это невозможно.
Конечно, ты с насмешкой или даже с презрением повторишь свои слова о моем бегстве из Боснии. Вряд ли это письмо объяснит тебе мой поступок или оправдает его в твоих глазах, но, видимо, в жизни бывают обстоятельства, когда надо обратиться к древнему латинскому изречению: «Non est salus nisi in fuga».[3] Прошу тебя, поверь мне только в одном: я бегу не от своего долга перед людьми, а для того, чтобы иметь возможность полностью и без помех его выполнить.
Желаю тебе, как и всей нашей Боснии, счастья в новой национальной и государственной жизни!
Твой М.Л.»
Прошло десять лет. Я редко вспоминал друга своего детства и, наверное, забыл бы его совсем, если бы мысли, высказанные в его письме, время от времени не напоминали мне о нем. Кажется, в 1930 году я случайно узнал, что доктор Макс Левенфельд остался в Париже, что он практикует в предместье Нёйи и что в югославской колонии и среди югославских рабочих-иммигрантов он известен как «наш доктор», который бесплатно лечит рабочих и студентов и, когда это необходимо, сам покупает для них лекарства.