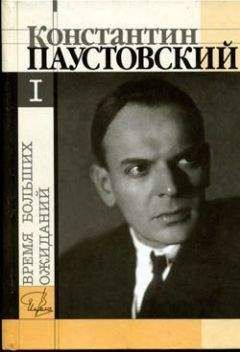Ознакомительная версия.
Я проснулся и долго лежал, не открывая глаз, ощущая у себя на лице чьи-то теплые ладони. От них пахло цветущей мимозой.
Это был, конечно, утренний бриз. Он заполнил каюту, лениво бродил по ней и прикасался ко всему, что попадалось ему на пути, в том числе и к моим щекам.
Сквозь полусон я вспомнил, что вот уже пятый день не брился и наверняка исцарапаю своей щетиной эти милые ладони. Мне стало стыдно, я решил тотчас побриться, и, должно быть, от этого окончательно проснулся.
Позванивала якорная цепь. С палубы доносились обычные портовые возгласы: «Вира, чертов банабак! Майна помалу!»
Наконец я открыл глаза. За иллюминатором блистало солнце, занявшее половину неба и половину моря и как бы приблизившееся к земле. В его победоносном свете качалась снаружи живая стена роскошной растительности.
На нее то тут, то там были брошены разноцветные мазки из киновари, чистейших белил и охры. Я закрыл глаза, помотал головой и, снова открыв глаза, убедился, что это не мазки масляной краски, а разбросанные по листве незнакомые цветы.
– «Что это? – спросил я себя и сел на койке. – Мираж? Или остров Таити? Или райские острова Самоа?»
Нет, это не было ни миражем, ни островом Таити, ни галлюцинацией после мрачной ночи. Я услышал за иллюминатором хрипловатый голос второго помощника капитана:
– Ни-ко-го! – сказал он решительно. – Никого не спустим на берег. Ясно? Хоть самого Шолом-Алейхема. Приказ правительства Абхазской республики! Точка! Так что можете полюбоваться Сухумом с палубы и не полировать себе кровь. Еще, даст бог, поживете на свете и увидите все, что вам надо увидеть, и даже то, чего вам совсем не надо бы видеть.
Я быстро оделся и вышел на палубу. Блеск медных пластинок, набитых на ступеньки трапа, ослепил меня. Короткое головокружение заставило схватиться за поручни.
С берега наплывали терпкие запахи, сливаясь с чуть ощутимым шелковистым веянием роз.
Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, и тогда я улавливал дыхание азалий, лавров, эвкалиптов, олеандр, глициний и еще множества удивительных по своему строению и краскам цветов.
Я решил сойти на берег в Сухуме, чего бы это ни стоило. И не только сойти, но и остаться здесь.
Мне казалось, что если я сойду, то сбудутся мечты моего детства. Мечты о том, чтобы на худой конец хотя бы прикоснуться к ворсистым стволам кокосовых пальм, к изумрудной коре бамбука – всегда холодной и глянцевитой, к земле, розовой от кораллового песка.
Такие мечты я, когда был еще мальчишкой, называл, подражая маме, «несбыточными». Это слово я часто слышал от нее, когда она сердилась на отца. Она даже кричала на него. Когда же он, сгорбившись, покорно уходил из дому, чтобы избежать постоянных попреков, то мама плакала от жалости к нему и брала с меня слово, что я буду всю жизнь любить его и беречь, как ребенка. «Я не могу смотреть на его сгорбленную спину», – говорила она с отчаянием.
Но ни она, ни я и никто из близких не уберегли его. Это мучило маму до самой ее смерти.
В детстве я, конечно, не испытывал никакой горечи от «несбыточного». Да и не мог испытывать. Я только догадывался, что это чувство очень грустное и что оно, как однажды сказал отец, опустошает ни в чем не повинное человеческое сердце.
Когда я был уже восьмиклассником, я нашел в письменном столе у отца узкие полоски бумаги, исписанные его рукой. Я смог разобрать только одну фразу о том, что несравненно тяжелее пережить несбывшееся, чем несбыточное.
С тех пор слабая печаль о несбывшемся почти не оставляла меня, несмотря на мой внешне веселый характер. С тех пор меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы.
Я понял смысл отцовских слов и еще больше полюбил его, но уже на том страшном отдалении, на каком мы с ним находились сейчас. Он лежал в потрескавшейся от засухи земле, среди колючего чертополоха на деревенском кладбище под Белой Церковью, а я скитался по свету один.
Мы навсегда потеряли друг друга. Но я еще хоть изредка мог вспоминать о нем. А он меня не мог даже вспомнить.
Я твердо решил остаться в Сухуме. Но как это сделать? «Пестель» стоял на якоре далеко от берега. Только две широкие турецкие лодки (их назвали «магунами») были пришвартованы к его борту. С них лебедкой грузили на «Пестеля» обшитые холстиной тюки табака. На берег никого не пускали из-за объявленного абхазскими властями загадочного карантина.
Я пошел к капитану и сказал ему, что мне нужно, как сотруднику «Моряка», хотя бы на час съехать на берег. Капитан поморщился.
– Надо поговорить со смотрителем порта, – сказал он. – Тяжелый мужчина. Ну, все равно. Пойдемте.
Смотритель порта – человек с рыжими, как прокуренные усы, бровями – решительно и грубо отказался пустить меня на берег.
– Кредит, – сказал он грозно, – портит отношения.
При чем здесь был кредит, я не понял.
Капитан настаивал, и смотритель порта, наконец, сдался.
– Можете выкатываться, – сказал он мне, – но только в том виде, в каком вы сейчас стоите передо мной. Без чемодана, без всякого барахла и даже без кепки. И прямо отсюда на берег, не заходя в каюту.
– Почему? – спросил я, хотя прекрасно понял, что смотритель боится, как бы я не захватил в каюте деньги и не остался в Сухуме.
– Я имею привычку, – ответил он, – обижаться на лишние расспросы. Если согласны, спускайтесь в магуну. Она сейчас отвалит. А следующей магуной вернетесь. Популярнее объяснить не могу.
Я слез в магуну по веревочному трапу. Пока я еще не представлял себе, как вывернусь из этого затруднения с Сухумом. Меня успокаивало лишь то, что все деньги были при мне. Чемоданом я решил пожертвовать: там ничего ценного не было, кроме трех чистых рубах. Рукопись своей первой повести, «Романтики», я оставил в Одессе.
В магуне першило горло от табачной пыли. Через борт лениво заглядывала малахитовая волна. Грузчики-абхазцы с хищными лицами яростно кричали. Пыльные мешки были гордо обвязаны вокруг их голов.
Мне показалось, что грузчики собираются выбросить меня в море. Но смотритель порта крикнул им что-то по-абхазски. Они сразу успокоились и даже угостили меня табаком «самсун».
От этого табака у меня на несколько секунд остановилось дыхание. Солнце завертелось в небе. Абхазцы сочувственно покачали головами и нехотя взялись за тяжелые весла. Магуна поползла, переваливаясь, к таинственному берегу.
Для того чтобы понять, что происходило в то время в Сухуме, нужно рассказать про общую обстановку на том клочке кавказского берега, где простиралась у подножия гор душная и маленькая Абхазия.
Советская власть в Абхазии была установлена совсем недавно. Старое перемешалось с новым, как перемешиваются вещи в корзине от сильного толчка.
Конечно, только молодостью Советской власти объяснялись все те казусы и удивительные положения, какие возникали в тогдашней Абхазии и напоминали нравы маленькой южноамериканской республики, описанные веселым пером О'Генри в его книге «Короли и капуста».
Первое время своей жизни в Сухуме я постоянно терял веру в действительность того, что происходило вокруг. У меня как бы расшаталось чувство времени и обстановки.
Если бы я увидел тогда на рее шхуны «Три брата» контрабандиста в крепко просмоленной петле, я бы, пожалуй, не очень удивился. Если бы в заливе остановился круглый бронированный монитор времен войны между северными и южными штатами и начал швырять на Сухум ядра, маленькие, как дыньки-канталупы, я не был бы особенно поражен.
Если бы моя сухумская хозяйка, семидесятилетняя мадемуазель Генриетта Францевна Жалю[2], бывшая гувернантка, оказалась бывшей любовницей бывшего владетеля Абхазии светлейшего князя Ширвашидзе, то в этом тоже не было бы ничего особенного. Я продолжал бы невозмутимо нить чай с подаренным мне престарелой мадемуазель кислейшим в мире кизиловым вареньем. Сироп этого варенья напоминал кровь горного заката.
Что же происходило в Абхазии на самом деле? Маленькая страна, тесно зажатая с трех сторон областями, где люди умирали от сыпняка, решила спастись самым доступным и нехитрым способом – отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не перебежала границу.
Сделать это было сравнительно легко. С севера Абхазию отгораживал Главный хребет. Единственный Клухорский перевал в то время был непроходим: вьючная тропа в нескольких местах обрушилась. Днем и ночью без устали сползали и дымили по обрывам лавины.
С севера, со стороны Сочи, и с юга, со стороны Аджарии, шоссе и мосты были взорваны во время гражданской войны и загромождены множеством осыпей и обвалов.
Оставался единственный путь – море. Но на море не было пароходов, если не считать «Пестеля».
Всего легче было объявить карантин против сыпняка и никого не пускать с парохода на берег. Так местные власти и поступили.
Ознакомительная версия.