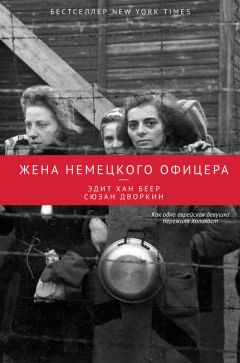Каждый, включая Силлертона Джексона, признавал, что старая Кэтрин никогда не блистала красотой, которая — в глазах нью-йоркского общества — могла объяснить любой успех и загладить любой промах. Злые языки поговаривали, что она, как и ее венценосная тезка,[11] добилась успеха благодаря сильной воле, бессердечию, высокомерию и самоуверенности, что, впрочем, оправдывалось исключительной личной порядочностью и чувством собственного достоинства. Ей было только двадцать восемь, когда мистер Минготт умер, он не очень-то доверял семейству Спайсеров и внес в завещание некоторые ограничения на пользование наследством, что, однако, не помешало молодой и самоуверенной вдове вести себя совершенно свободно. Кэтрин вращалась в обществе иностранцев, была на дружеской ноге с герцогами, послами и папистами, принимала оперных певцов и была близкой подругой мадам Тальони;[12] выдала замуж своих дочерей в черт знает какие — то ли фешенебельные, то ли порочные — круги… И все же — Силлертон Джексон первым провозгласил это — ни малейшего пятна не появилось на ее репутации, что, обычно добавлял он, выгодно отличало ее от Екатерины Великой, если не считать того, что она не была русской императрицей.
Миссис Мэнсон Минготт уже давно удалось добиться снятия ограничений с наследства, и она жила в достатке уж полсотни лет; но память о «нищих временах» сделала ее скуповатой. Правда, она не стесняла себя в расходах при покупке мебели или одежды, но потратить большие суммы денег на столь скоротечно проходящую радость, как вкушение пищи, было выше ее сил. Поэтому еда в ее доме была так же нехороша, как и в доме миссис Арчер (правда, причины у них были разные), и даже прекрасные вина не спасали дело. Родственники считали, что бедность ее стола позорит имя Минготтов, которые всегда славились хлебосольством, но народ продолжал к ней ездить, несмотря на «готовые блюда» и выдохшееся шампанское, и в ответ на увещевания своего сына Лавела (который, защищая честь семьи, нанял лучшего в Нью-Йорке шеф-повара) говорила, смеясь: «Что за польза от двух поваров в семье теперь, когда я выдала замуж дочерей, а сама не ем соусов?»
Размышляя обо всем этом, Ньюланд Арчер снова посмотрел на ложу Минготтов. Миссис Уэлланд и ее невестка отражали летящие отовсюду стрелы критических взглядов с чисто минготтовским апломбом, который старая Кэтрин привила всему своему клану, и только румянец Мэй предательски свидетельствовал о серьезности ситуации. Возможно, впрочем, что она чувствовала его взгляд и это усугубляло положение, в котором она оказалась. Сама же «причина» этого смятения грациозно сидела в углу ложи, не отрывая глаз от сцены, чуть наклонившись вперед; плечи и грудь ее были обнажены чуть более, чем это было принято в Нью-Йорке, во всяком случае у дам, которые не стремились выставлять себя напоказ.
Весьма мало вещей существовало на свете, которые для Ньюланда Арчера были более нестерпимы, чем преступление против «вкуса», того далекого божества, наместником которого в нью-йоркском обществе являлся «хороший тон». Бледное, серьезное лицо мадам Оленской укладывалось в это понятие, поскольку соответствовало неопределенности ее положения; но вот вырез ее открытого, без всякой шемизетки, платья, ниспадавшего с открытых плеч, вступал в противоречие с хорошим тоном и потому шокировал Арчера. К тому же ему была ненавистна мысль, что его невеста подвергается влиянию этой женщины, столь равнодушной к требованиям нью-йоркского общества.
— В конце концов, — услышал он голос одного из молодых членов клуба, переговаривавшихся меж собой (во время дуэта Мефистофеля и Марты разговоры допускались), — в конце концов, ЧТО ИМЕННО случилось?
— Она сама оставила его, этого никто не отрицает.
— Но ведь он ужасная скотина, не так ли? — продолжал расспросы один из собеседников, простодушный Торли, выказывая явную готовность стать в ряды защитников дамы, о которой шла речь.
— Гораздо хуже. Я был знаком с ним в Ницце, — авторитетно произнес Лоуренс Леффертс. — Этакий ироничный бездельник благородных кровей. Красиво посаженная голова и глаза в густых ресницах. Такого, знаете ли, типа… бегает за каждой юбкой, а на досуге коллекционирует фарфор. Платит любую цену и за то и за другое, я так понимаю.
Все засмеялись, и тот же юноша спросил:
— Ну и?..
— Так вот, она сбежала с его секретарем.
— Вот как… — Юноша был явно разочарован.
— Впрочем, это продолжалось недолго — я слышал, несколько месяцев спустя она жила в Венеции одна. Кажется, Лавел Минготт ездил за ней. Он сказал, что она была в отчаянии. Пусть так, но выставлять ее напоказ в Опере — совершенно неприемлемо.
— Может быть, — рискнул предположить юный Торли, — она слишком несчастна, чтобы оставаться дома?
Это предположение вызвало не слишком почтительный смех, и густо покрасневший юноша предпочел сделать вид, что в его сочувственном замечании был какой-то совершенно иной смысл.
— Однако действительно странно — зачем тогда привозить мисс Уэлланд? — тихо сказал кто-то, искоса взглянув в сторону Арчера.
— О, это часть генерального плана: приказ бабули, не иначе, — рассмеялся Леффертс. Узнаю почерк старушки: либо все, либо ничего.
Действие шло к концу, и все в ложе зашевелились. Внезапно Арчер понял, как ему следует поступить. Первым войти в ложу миссис Минготт, объявить о давно ожидаемой всеми помолвке с Мэй и таким образом помочь ей в возникшей ситуации, в которую ее втянула неожиданно возникшая кузина, — этот страстный порыв взял верх над его неукротимым снобизмом, и он поспешно покинул мужское общество.
Как только он вошел и встретился глазами с Мэй, он понял, что она угадала причину его появления, хотя негласные правила того общества, к которому они оба принадлежали, никогда бы не позволили ей сознаться в этом. Люди их круга жили в тонкой, деликатной атмосфере легких намеков, и тот факт, что он и она понимали друг друга без слов, сближало их более каких-либо объяснений. «Вы, конечно, понимаете, почему мама взяла меня с собой?» — спросила она взглядом, и его глаза ответили: «Ни за что на свете я не желал бы, чтобы вы спасовали».
— Вы знакомы с моей племянницей, графиней Оленской? — спросила миссис Уэлланд, здороваясь со своим будущим зятем.
Арчер поклонился графине, не протягивая руки, как требовал обычай при представлении даме; Эллен Оленская отвечала легким кивком, нервно, как ему показалось, стискивая обеими руками в светлых перчатках огромный веер из орлиных перьев.
Поприветствовав и миссис Лавел Минготт, крупную блондинку в скрипучем атласе, Арчер сел рядом с невестой и тихо спросил:
— Вы сказали мадам Оленской, что мы обручены? Я хочу, чтобы все были оповещены об этом. Вы позволите мне объявить о помолвке сегодня вечером на балу?
Зардевшись подобно утренней заре, мисс Уэлланд подняла на него сияющие глаза.
— Если вы сможете убедить маму, — сказала она. — Однако почему мы должны менять свои планы? — Он ответил ей взглядом, и она кивнула, улыбкой показывая, что прекрасно поняла его и согласна с ним: — Моей кузине можете сообщить сейчас. Я вам разрешаю. Она рассказывала мне, что вы вместе играли, когда были детьми.
Она слегка отодвинулась, освобождая ему проход, и Арчер проворно, с нарочитой готовностью показать всему свету, что именно он делает, уселся рядом с графиней Оленской.
— Ведь мы и в самом деле часто играли вместе, не так ли? — спросила она, взглянув на него своими печально-бездонными глазами. Вы были противным мальчишкой и однажды поцеловали меня за дверью; а я была влюблена в вашего кузена Венди, который даже не смотрел в мою сторону. — Она скользнула взглядом вдоль лож, расположившихся полукругом, напоминавшим подкову. — О, как это все напоминает мне о прежних временах, когда каждый, кто сидит здесь, бегал в коротких штанишках или кружевных панталончиках. — И она снова перевела взгляд на Арчера. В ее голосе был слышен едва уловимый иностранный акцент.
Выражение ее глаз было мягким и доброжелательным, но Арчер был шокирован столь непочтительным сохранившимся в ее памяти образом августейшего трибунала, который в этот момент выносит ей свой приговор. Неуместное легкомыслие было уже полной потерей вкуса, и Арчер пробормотал довольно сухо:
— Да, вас и в самом деле долго не было.
— О, целую вечность, — согласилась она, — так долго, что у меня такое впечатление, будто я умерла и похоронена, а это доброе старое место есть Царствие Небесное.
И эти слова — почему, он не смог бы, наверное, объяснить — показались Ньюланду Арчеру выражением еще большего неуважения к нью-йоркскому высшему свету.
Порядок жизни нью-йоркского общества был неизменен.
Миссис Джулиус Бофорт никогда не упускала возможности появиться в Опере, даже в день своего ежегодного бала, — более того, она словно нарочно назначала бал на тот вечер, когда давали оперу, чтобы появиться в театре и подчеркнуть, что заниматься хозяйством ниже ее достоинства и она имеет столь исключительный штат прислуги, что он способен справиться с организацией праздника до малейших деталей самостоятельно, и ее присутствие совершенно не обязательно.