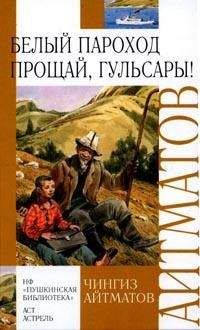Только оказалось, спешил Танабай, слишком спешил — в залог будущего надо было отдать еще годы и годы.
Сначала поработал он в кузнице молотобойцем. Имел когда-то в этом сноровку и, дорвавшись до наковальни, с утра до вечера сыпал сплеча так, что кузнец едва успевал поворачивать под молотом раскаленный кусок железа. Ему и сейчас еще слышится иной раз тот перестук и звон в кузнице, что заглушал все тревоги и заботы. Не хватало хлеба, одежды, женщины ходили в галошах на босу ногу, детишки не знали, что такое сахар, колхоз весь в долгах сидел, счета в банке были арестованы, а он отмахивался от всего этого молотом. Ухал им, наковальня звенела, разлетались синими брызгами искры. «Уг-ха, уг-ха! — выдыхал он, вздымая и опуская молот, и думал: — Все уладятся, главное — победили, главное — победили!» А молот вторил: — «Победили, победили, дили, дили, дили!» И не только он, в те дни все жили воздухом победы, как хлебом.
А потом Танабай пошел в табунщики, уехал в горы. Чоро его уговорил. Покойный Чоро был тогда председателем колхоза, он всю войну председательствовал. В армию его не взяли из-за больного сердца. Вроде и дома он сидел, а постарел здорово. Танабай это сразу заметил, когда вернулся.
Вряд ли кто другой уговорил бы его сменить кузню на табун. Но Чоро был его давнишним другом. Вместе они когда-то начинали комсомольцами агитировать за колхоз, вместе кулаков раскулачивали. Особенно он, Танабай, старался тогда. Не щадил он тех, кто попадал в список на раскулачивание…
Уговорил его Чоро, приехав к нему в кузницу, и, кажется, очень был доволен этим.
— А я боялся, что ты прирос к молоту, не оторвешь, — говорил он, улыбаясь.
Больной был Чоро, тощий, шея вытянулась, морщины залегли на впалых щеках. Время еще было теплое, но Чоро и летом ходил в своей неизменной фуфайке.
Сидели они, опустившись на корточки, у арыка, неподалеку от кузницы, беседовали. Вспомнилось Танабаю, каким был Чоро в молодости. В ту пору он был самым грамотным в аиле и видным собой парнем. Люди уважали его за спокойный, добрый нрав. А Танабаю не нравилась его доброта. На собраниях он, бывало, вскакивал и прорабатывал Чоро за недопустимую мягкотелость в классовой борьбе с врагом. Получалось у него это крепко, прямо как по газете. Все, что слушал на громких читках, наизусть повторял. Иной раз самому становилось страшно от своих слов. Зато здорово получалось.
— Понимаешь, был я третьего дня в горах, — рассказывал Чоро. — Старики спрашивают, все ли солдаты вернулись? Да все, говорю, кто в живых остался. «А когда думают браться за работу?» Работают уже, отвечаю, кто на поле, кто на стройке, кто где. «Это и мы знаем. А табуны кому водить? Будут ждать, пока мы помрем, так нам немного уже осталось». Стыдно мне стало. Понимаешь, к чему разговор ведут? Стариков этих мы в войну послали в горы табунщиками. С тех пор они там. Не тебе говорить, дело это не стариковское. Вечно в седле, ни днем ни ночью покоя. А в зимние ночи как! Помнишь Дербишбая, тот так и окоченел в седле. А они ведь и коней объезжали — армии нужны были кони. Попробуй на седьмом десятке лет, чтоб потаскал тебя как-нибудь сатана по горам да по долам. Костей не соберешь. Спасибо им и на том, что выстояли. А фронтовики вот вернулись и нос воротят, культуры понавидались за границей, в табунщики уже не желают. Зачем, мол, мне скитаться по горам? Вот как получается. Так что выручай, Танабай. Ты пойдешь, тогда и других заставим.
— Хорошо, Чоро, попробую поговорю с женой, — отвечал Танабай. А сам думал: «Жизнь-то какая прошумела над головой, а ты, Чоро, все такой же. Сгораешь от своей доброты. Может, это и хорошо. Всякое повидали за войну, нам бы всем добрее быть. Может, это и есть самое верное в жизни?»
На том они было и разошлись.
Танабай пошел к себе в кузницу. Но Чоро вдруг окликнул его:
— Постой, Танабай. — Он подъехал к нему на коне, склонился на луку седла, заглядывая в лицо. — Ты, случаем, не обижаешься? — спросил негромко. — Понимаешь, времени никак не выкрою. Посидеть хотелось, поговорить по душам, как бывало. Сколько лет не виделись. Думал, кончится война, легче станет, а забот не убавляется. Иной раз глаз не сомкнешь, всякие мысли лезут в голову. Как сделать, чтобы хозяйство поднять, народ накормить и чтобы планы все выполнять. И люди уже не те, жить хотят лучше…
Но им так и не удалось потолковать по душам, так и не нашли они случая посидеть наедине. А время шло, потом было уже поздно…
Вот тогда-то, отправившись в горы табунщиком, Танабай впервые и увидел там в табуне старого Торгоя буланого жеребчика-полуторалетку.
— В наследство что оставляешь, аксакал? Табун-то не ахти, а? — уязвил Танабай старого табунщика, когда лошади были пересчитаны и выгнаны из загона.
Торгой был сухонький старичок без единой волосинки на сморщенном лице, сам с локоток, как подросток. Большая косматая баранья шапка сидела на нем, словно гриб. Такие старики обычно легки на подъем, занозисты и горласты.
Но Торгой не вспылил.
— Какой есть, табун как табун, — невозмутимо ответил он. — Хвалиться особенно нечем, погоняешь — увидишь.
— Да я так, отец, к слову, — примирительно промолвил Танабай.
— Один есть! — Торгой сдвинул с глаз нависшую шапку и, привстав на стременах, показал рукояткой камчи. — Вон тот буланый жеребчик, что с правого края пасется. Далеко пойдет.
— Это который — вон тот, круглый, как мяч? Что-то мелковат с виду, поясница короткая.
— Поздныш он. Выправится — ладный будет.
— А что в нем? Чем он хорош?
— Иноходец от роду.
— Ну и что?
— Таких мало встречал. В прежние времена ему цены не было бы. За такого в драках на скачке головы клали.
— А ну глянем! — предложил Танабай.
Они пришпорили коней, пошли краем табуна, отбили буланого в сторону и погнали его перед собой. Жеребчик не прочь был пробежаться. Он весело тряхнул челкой, фыркнул и пошел с места, как заводной, четкой, стремительной иноходью, описывая большой полукруг, чтобы вернуться к табуну. Увлеченный его бегом, Танабай закричал:
— О-о-о, смотри, как идет! Смотри!
— А ты как думал, — задорно отозвался старый табунщик.
Они быстро рысили вслед за иноходцем и кричали, как маленькие дети на байге. Голоса их словно бы подстегивали жеребчика, он все убыстрял и убыстрял бег, почти без напряжения, без единого сбоя на скач, шел ровно, как в полете.
Им пришлось пустить коней в галоп, а тот продолжал идти в том же ритме иноходи.
— Ты видишь, Танабай! — кричал на скаку Торгой, размахивая шапкой. — Он на голос чуткий, смотри, как поднадает на крик! Айт, айт, ай-та-а-ай!
Когда буланый жеребчик вернулся наконец к табуну, они оставили его в покое. Но долго еще не могли угомониться, проезжая своих разгоряченных лошадей.
— Ну спасибо, Торгой-аке, хорошего коня вырастил. На душе даже веселей стало.
— Хорош, — согласился старичок. — Только ты смотри, — вдруг посуровел он, скребя в затылке. — Не сглазь. И прежде времени не болтай. На хорошего иноходца, как на красивую девку, охотников много. Девичья судьба какая: попадет в хорошие руки — будет цвести, глаза радовать, попадет к какому-нибудь дурню — страдать будешь, глядя на нее. И ничем не поможешь. Так и с хорошим конем. Загубить просто. Упадет на скаку.
— Не беспокойся, аксакал, я ведь тоже разбираюсь в этом деле, не маленький.
— Вот то-то. А кличка его — Гульсары. Запомни.
— Гульсары?
— Да. Внучка прошлым летом приезжала гостить.
Это она так прозвала его. Полюбила. Тогда он стригунком был. Запомни: Гульсары.
Словоохотливым оказался старичком Торгой. Всю ночь наказы давал. Танабай терпеливо выслушивал.
Провожал он Торгоя и жену его верст семь от стойбища. Оставалась пустая юрта, в которой он должен был поселиться с семьей. В другой юрте поселится его помощник. Но помощника еше не подобрали. Пока он был один.
На прощанье Торгой снова напомнил:
— Буланого пока не тронь. И никому не доверяй. Весной сам объезжай его. Да смотри, осторожней. Как пойдет под седлом, сильно не гони. Задергаешь, собьется с иноходи, испортишь коня. Да смотри, чтобы в первые дни не опился сгоряча. Вода на ноги упадет, мокрецы пойдут. А когда выездишь — покажешь, если не умру…
И уехал Торгой со своей старухой, оставив ему табун, юрту, горы, уводя с собой верблюда, навьюченного пожитками…
Если бы знал Гульсары, сколько разговоров шло о нем и сколько еще будет и к чему это все приведет!..
Он по-прежнему вольно ходил в табуне. Вокруг было все то же, те же горы, те же травы и реки. Только вместо старика стал гонять их другой хозяин — в серой шинели и в солдатской ушанке. Голос нового хозяина был с хрипотцой, но громкий и властный. Табун к нему вскоре привык. Пусть себе носится вокруг, если нравится.
А потом пошел снег. Он выпадал часто и долго лежал. Лошади разгребали снег копытами, чтобы добраться до травы. Хозяин почернел лицом, и руки его задубели от ветров. Теперь он ходил в валенках, кутался в большую шубу. Гульсары оброс длинной шерстью, и все же ему было холодно, особенно по ночам. В морозные ночи табун сбивался в затишке в плотную кучу и стоял так, индевея, до восхода солнца. Хозяин тут же топтался на коне, хлопал рукавицами, растирал лицо. Иногда исчезал и снова появлялся. Лучше было, когда он не отлучался. Крикнет он или крякнет от мороза — табун вскинет головы, навострит уши, но тут же, убедившись, что хозяин рядом, задремлет под шорох и посвист ночного ветра. С той зимы Гульсары запомнил голос Танабая на всю жизнь.