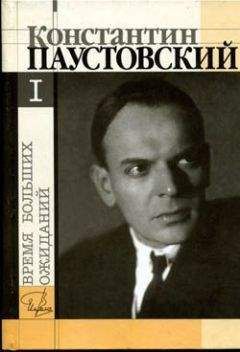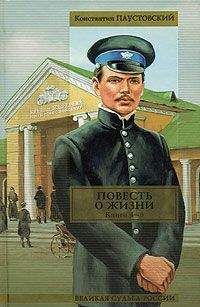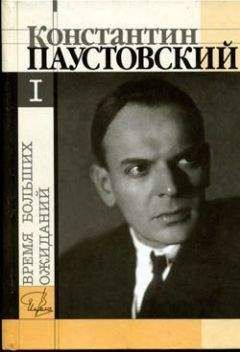Ознакомительная версия.
Захаров учился в Бельгии, много лет прожил в Брюсселе и незадолго до Первой мировой войны вернулся в Россию. Это был веселый холостяк с седеющей подстриженной бородкой. Он носил просторные заграничные костюмы и пронзительные очки. Весь стол в своей комнате Захаров завалил книгами. Но среди них я не нашел почти ни одной технической. Больше всего было мемуаров, романов и сборников «Знания».
У Захарова я впервые увидал на столе французские издания Верхарна, Метерлинка и Роденбаха.
В то лето все восхищались Бельгией — маленькой страной, принявшей первый удар немецких армий. Всюду пели песню о защитниках осажденного Льежа.
Бельгия была разбита вдребезги в два-три дня. Над ней сиял ореол мученичества. Готические кружева ее ратуш и соборов обрушились и перетерлись в пыль под сапогами немецких солдат и коваными колесами пушек.
Я читал Верхарна, Метерлинка, Роденбаха, стараясь найти в книгах этих бельгийцев разгадку мужества их соотечественников. Но я не находил этой разгадки ни в сложных вархарновских стихах, отрицавших старый мир, как великое зло, ни в мертвых и хрупких, как цветы подо льдом, романах Роденбаха, ни в пьесах Метерлинка, написанных как бы во сне.
Однажды я встретил Захарова на Тверском бульваре. Он взял меня под руку и начал говорить о войне, о потрясенной культуре, о Бельгии. Говорил он с легким французским акцентом.
Великолепная осень стояла в те дни над Москвой. Деревья роняли золоченую листву на стволы орудий. Орудия и зарядные ящики стояли шеренгами вдоль московских бульваров, дожидаясь отправки на фронт.
Прозрачное, небывало густое и синее небо — дорога перелетных стай — простиралось над городом в сиянии тускнеющего солнца. И все сыпалась и сыпалась листва, заваливала крыши, тротуары, мостовые, шуршала под метлами дворников, под ногами прохожих, как бы стараясь напомнить людям, что вокруг них все еще существует забытая ими земля, что, может быть, ради этой земли, ради слабого блеска сентябрьской паутины, ради ясности сухих и прохладных горизонтов, ради затишливых вод, вздрагивающих от упавшего с дерева кусочка коры, ради запаха желтеющей ракиты, ради всей этой шелестящей, необыкновенно прекрасной России, ради ее деревень, ее изб, курящихся молочным дымом соломы, синеватых речных туманов, ее прошлого и будущего, — ради всего этого все честные люди всего мира огромным совместным усилием остановят эту войну.
Я понимал, конечно, что надеяться на это нельзя, что все эти мысли, как любил говорить Боря, «сплошное донкихотство» и что поднявший меч на наш народ и его культуру, может быть, от этого меча и погибнет, но никогда добровольно не вложит его в ножны.
Война накатывалась все ближе своим неотвратимым ходом. Казалось, дым ее пожаров уже заволакивал небо Москвы. Потом мы узнали, что это был действительно дым пожаров, но только лесных, — под Тверью горели леса и сухие болота.
Утром я просыпался у себя в комнате — я спал на полу — и смотрел за окно. В небе пролетали листья и, качаясь, опускались на землю. Рама окна скрывала их от меня, и мне не удавалось проследить, куда они падают.
Я не мог избавиться от мысли, что этот медленный и долгий — изо дня в день — полет листьев, может быть, последний в моей жизни. И все казалось, что листья летят с запада на восток, спасаясь от войны.
Мне не стыдно сейчас сознаться в этих мыслях, — я был очень молод. Все окружающее было наводнено до краев лирической силой, исходившей, вероятно, от меня самого. Я же думал тогда, что такова сущность жизни.
— Так вот, мой друг, — сказал мне Захаров, — не пора ли вам бросить слоняться по окрестностям Москвы в вашем туманном состоянии. За эту неделю, как передавала мне Мария Григорьевна, вы уже успели смотаться в Архангельское и Останкино.
Слово «смотаться» Захаров сказал с особенным вкусом. Так он произносил все непривычные еще для него русские слова.
— Да, я был и в Архангельском и в Останкине, — сознался я. — О каком таком туманном состоянии вы говорите?
Захаров усмехнулся:
— Вы ведете себя так, будто мир существует только для того, чтобы наполнять нас интересными мыслями.
— Ну и что ж? — спросил я резко. Я начинал сердиться. Почему все, будто сговорившись, обвиняют меня в несерьезном, в мальчишеском отношении к жизни?
— Просто вы начитались до отрыжки современных поэтов, — сказал примирительно Захаров и с удовольствием повторил: — До отрыжки.
— Если судить по вашим книгам, вы тоже предпочитаете художественную литературу трамваю.
— Дело в том, — объяснил Захаров, — что Бельгия — классическая страна трамваев. И мистической поэзии. Меня выслали за границу еще гимназистом. Я попал в Бельгию, прижился там и окончил инженерный институт в Льеже. Но дело не в этом. Дело в войне. Вот, извольте!
Со стороны Страстной площади долетала музыка походного марша и гремело заглушенное протяжное «ура». Там выстроились перед отправкой на фронт запасные батальоны.
— Я только что был там, на площади, — добавил Захаров. — Я очень забыл Россию. Не по своей вине. Так вот, я протискался в первые ряды, чтобы посмотреть на солдат. От них сильно пахло хлебом. Удивительный запах! Услышишь его — и почему-то веришь, что русскому народу никто не сломит шею.
— А Бельгия? — спросил я.
— Что Бельгия? Я вас не понимаю.
Я усмехнулся и сказал первое, что пришло мне в голову:
— Почему бельгийцы так отчаянно дрались с немцами?
— О-ля-ля! — пропел Захаров. — Маленький народ живет памятью о прошлом величии. За это я его уважаю. Вот Метерлинк. Мистический поэт с туманными зрачками и туманными мыслями. Старый католический бог его раздражает. Он просто груб для такой утонченной натуры, как Метерлинк. Поэтому он заменяет Бога потусторонним миром — это, конечно, несколько современнее и поэтичнее. Это более сильная отрава, чем религия. Все это так. Но, кроме того, Метерлинк — гражданин. Таково воспитание. Таковы традиции. Как гражданин, он берет своими мистическими пальцами винтовку и стреляет из нее так же хорошо, как любой королевский стрелок. Никому нет дела до расплывчатых мыслей Метерлинка-поэта. Но всем есть дело до Метерлинка-гражданина. Поэтому никто не вмешивается в его поэзию. Такова Бельгия. Да что говорить! Страна хорошая. Морской ветер продувает ее насквозь, и она полна веселых людей. Умеющих, кстати, работать. Что вы еще хотите знать о Бельгии? Пока ничего. Ну что ж, покончим с Бельгией и поговорим о более существенных для вас вещах.
Более существенной вещью для меня оказалось следующее: Захаров предложил устроить меня вожатым на московский трамвай. Дело в том, объяснил он, что почти всех вожатых и кондукторов взяли в армию. Нельзя оставлять огромный город во время войны без трамвая. Сейчас как раз идет наем новых вожатых и кондукторов.
Я опешил. Слишком резок был переход от Метерлинка к вожатому трамвая.
С гимназических лет я настойчиво думал о писательстве. Все перемены в жизни казались мне подготовительной школой для этого. Надо входить в жизнь, не брезгать ничем, — только так может накопиться жизненный опыт, создаться та кладовая, откуда я буду брать пригоршнями мысли, сюжеты, образы и слова.
К тому же я понимал, что сейчас нельзя уезжать от мамы. Надо побыть с ней и помочь ей. А здесь заработок сам шел в руки. И я согласился.
Когда я сказал маме и Гале, что поступаю вожатым на трамвай, мама только вздохнула и заметила, что она никогда не стыдилась никакой работы и приучила к этому и нас. А Галя начала волноваться — не убьет ли меня током.
— Я где-то читала, — испуганно сказала она, — про слона из цирка. Его сожгло трамвайным током. Может это быть или нет?
Я ответил, что все это чепуха.
Мне не сиделось дома, и я пошел в трактир на Кудринской улице. Он курился чайным паром.
Развязно, позванивая литаврами и бубенцами, гремел механический орган — трактирная «машина»:
Вот мчится тройка удалая
По Волге-матушке зимой…
За соседним столиком старый человек с поднятым воротником пиджака что-то писал, беспрерывно макая перо в чернильницу и снимая с него волоски.
Мне захотелось написать кому-нибудь из близких, из друзей о себе, о том, что жизнь переломилась и я буду работать вожатым на трамвае, но я тут же вспомнил, что писать мне совершенно некому.
Ямщик умолк, и кнут ременный
Повис в опущенной руке, —
гремела «машина», и в ответ ей звенели пустые стаканы.
Меня приняли вожатым в Миусский трамвайный парк. Но вожатым я работал недолго. Меня вскоре перевели в кондукторы.
Миусский парк помещался на Лесной улице, в красных почерневших от копоти кирпичных корпусах. Со времен моего кондукторства я не люблю Лесную улицу. До сих пор она мне кажется самой пыльной и бестолковой улицей в Москве.
Ознакомительная версия.