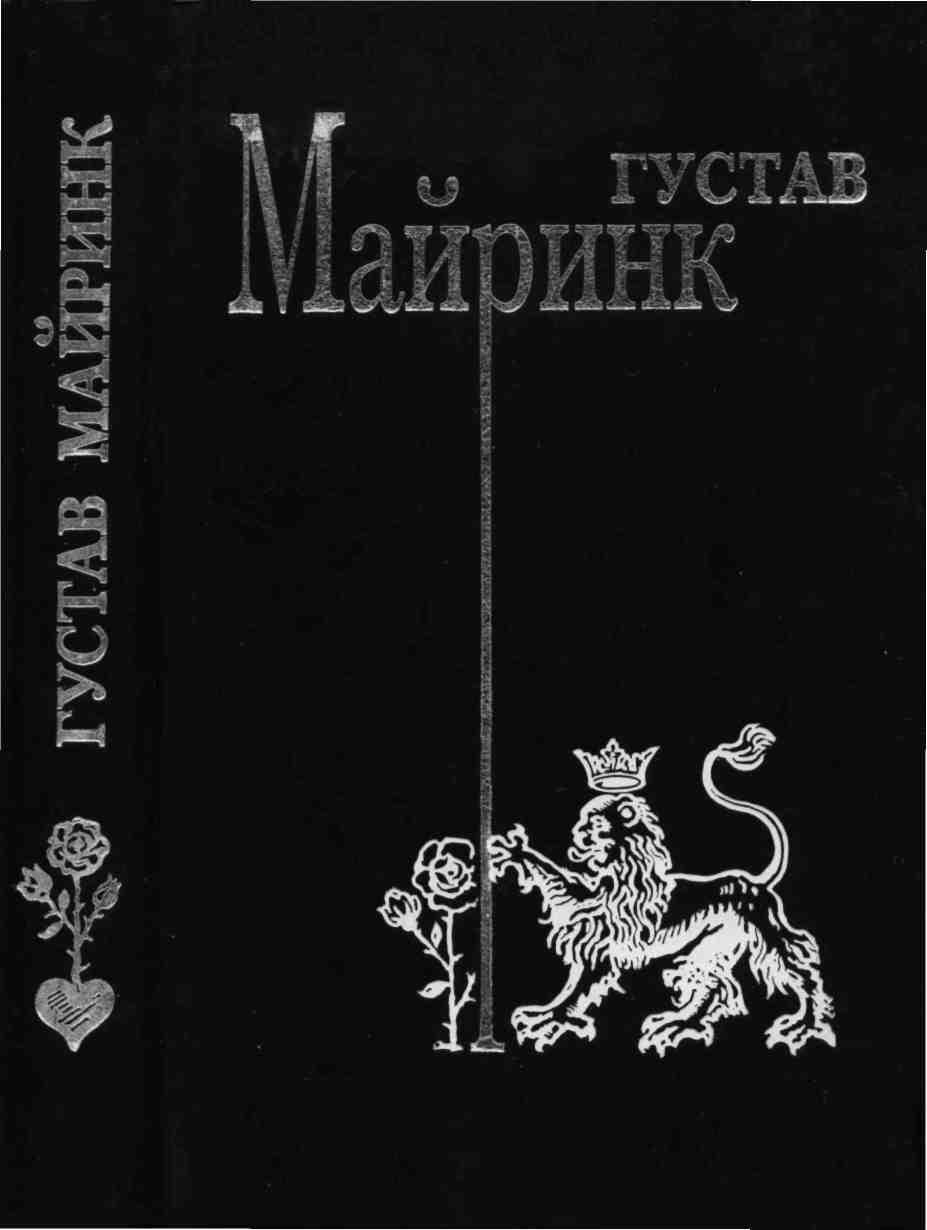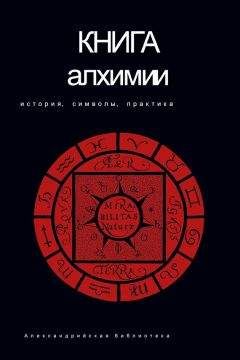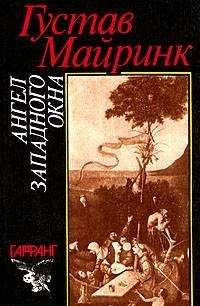лицо! Страх пропал; лишь слегка раздражало то, что теперь мне уже никак не удастся избежать назойливого луча.
Двуликий Янус, успокаивал я себя, ничего особенного, просто образная реминисценция школьной латинистики. Однако легче от этого не стало. Янус? Янус так Янус! Ну и что дальше? С какой-то маниакальной настойчивостью мое сонное сознание
цеплялось за это «Ну и что?..», совершенно не желая заниматься куда более закономерным вопросом: «Что со мной?»
Между тем карбункул стал медленно опускаться, неуклонно приближаясь к моему затылку. Наш человеческий язык бессилен передать чувство инородности, какой-то изначальной чуждости, которое рождало во мне это плавное, гипнотизирующее нисхождение. Осколок метеорита с каких-нибудь неизвестных созвездий был бы мне менее чуждым. Не знаю почему, но сейчас, вспоминая этот сон, я неотступно думаю о голубе, сошедшем с небес во время крещения Иисуса Иоанном Предтечей. Карбункул уже совсем низко, над самой моей головой, его луч в упор пронизывает мой затылок, точнее: линию сращения двух лиц. И вот ледяной ожог разрезал мой череп пополам. Но боли не было, скорее наоборот: какое-то странное, приятное ощущение проникло в меня и — разбудило...
Все утро я ломал голову над смыслом этого сна.
Наконец во мне шевельнулось смутное воспоминание из раннего детства о каком-то не то разговоре, не то рассказе, а может, о собственной фантазии или истории, вычитанной в книге, — во всяком случае, кристалл в нем фигурировал, и присутствовал там еще кто-то, только звали его совсем не Янус. И вот полузабытое видение всплыло из глубин памяти.
Когда я был еще ребенком, мой дед сажал меня к себе на колени и негромко, вполголоса рассказывал разные фантастические истории.
Все, связанное в моих воспоминаниях со сказкой, сошло с коленей «его светлости», который сам по себе был почти сказкой. Однажды, когда я галопировал, оседлав благородное колено, дед поведал мне о снах. «Сны, мой мальчик, — говорил он, — наследство куда более весомое, чем титул лорда или родовые владения. Запомни это, быть может, ты когда-нибудь станешь правомочным наследником, и тогда я оставлю тебе по завещанию наш родовой сон — сон Хоэла Дата». А потом, таинственно понизив голос, зашептал мне в самое ухо так тихо, словно опасался, как бы нас не подслушал воздух в комнате, о кристалле в одной далекой-далекой стране, достичь которой не в состоянии ни один смертный, если только его не сопровождает тот, кто победил смерть, и еще о золотой короне с горным кристаллом, венчающей голову Двуликого... Мне кажется, он говорил об этом Двуликом хранителе сна как об основателе нашего рода или фамильном духе... И здесь моя память уже бессильна; дальнейшее тонет в сплошном сером тумане.
Как бы то ни было, а ничего подобного до сегодняшней ночи мне не снилось! Был ли это сон Хоэла Дата?
Ответить определенно я не мог, а гадать не имело смысла, тем более что явился с визитом мой знакомый Сергей Липотин, пожилой антиквар из Верейского переулка.
Липотин — в городе его прозвали «Ничего» — был в свое время царским придворным антикваром и, несмотря на свою злосчастную судьбу, все еще оставался видным, представительным господином. Прежде миллионер, знаменитый специалист и знаток азиатского искусства, он хоть и был теперь стар, неизлечимо болен и торговал в своей убогой лавке предметами китайской старины, тем не менее весь его облик по-прежнему осеняло какое-то царственное достоинство. Благодаря его всегда безошибочным советам я приобрел несколько довольно редких безделушек. Но самое интересное: стоило моей страсти коллекционера вспыхнуть при виде какой-нибудь недоступной редкости, как незамедлительно являлся Липотин и приносил мне нечто подобное.
Сегодня, за неимением лучшего, я показал ему посылку моего кузена из Лондона. Некоторые из старинных гравюр он похвалил и назвал «rarissima» [3]. Внимание его также привлекли кое-какие вещицы, оправленные на манер медальонов, — прекрасный немецкий ренессанс, в котором чувствовалась рука отнюдь не ремесленника. Наконец он заметил герб Джона Роджера и умолк на полуслове... Когда я спросил, что его так взволновало, он пожал плечами, закурил сигарету и — промолчал.
Потом мы болтали о всякой ерунде. А стоя уже на пороге, он сообщил:
— Да будет вам, почтеннейший, известно, что наш дорогой Михаил Арангелович Строганов не переживет своей последней пачки папирос. Такова суровая правда. Вещей под заклад у него больше нет. Ничего не поделаешь. У всех у нас один конец. Мы, русские, как солнце, восходим на Востоке, а заходим на Западе. Честь имею!
После ухода Липотина я призадумался. Итак, настал черед Михаилу Строганову эмигрировать дальше, в зеленое царство мертвых, в изумрудную страну Персефоны. С тех пор как нас познакомили в каком-то кафе, этот старый русский барон живет лишь чаем и папиросами. Когда он, после бегства из России, прибыл в наш город, все его имущество было на нем.
Правда, под верхней одеждой ему удалось пронести сквозь большевистский кордон с полдюжины бриллиантовых колец и золотых карманных часов. Эти не бог весть какие драгоценности позволили ему некоторое время вести беззаботную жизнь, не ущемляя себя в аристократических привычках. Курил он только самые дорогие папиросы, которые какими-то таинственными путями поставлялись ему с Востока. «Сокровища земные дымом воскурить к небесам, — говаривал чудаковатый барон, — по всей видимости, единственная услуга, которую мы можем оказать Господу Богу». Потом он начал голодать и если не сидел в лавчонке Липотина, то где-то на окраине города замерзал в своей убогой мансарде.
Итак, барон Строганов, бывший императорский посол в Тегеране, лежит при смерти. «Ничего не поделаешь. Такова суровая правда». Рассеянно вздохнув, я занялся рукописями Джона Роджера.
Брал наудачу ту или иную книгу, перелистывал ее, просматривал тетради...
Но чем дольше ворошил я бумаги моего кузена, тем отчетливей понимал, что бессмысленно вносить какой-либо систематический порядок в эти разрозненные, никому не нужные листки: из осколков уже не построишь здания! «Сожги или сохрани, — шепнуло что-то во мне. — Плоть к плоти, прах к праху!»
Да и что мне за дело до какого-то Джона Ди? Почему, собственно, меня должна занимать история этого баронета Глэдхилла? Только из-за того, что этот старый, по всей видимости подверженный приступам сплина англичанин был предком моей матери?
И все же... Временами какие-то вещи, книги, исторические хроники имеют над нами большую власть, чем мы над ними; кто знает, может, они лишь притворяются мертвыми, и на самом деле скорее уж их следовало бы считать живыми, а не нас — жалких, бесцельно влачащихся по жизни людишек. Вот и я никак не могу