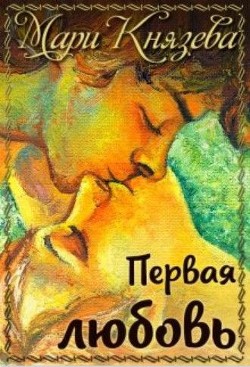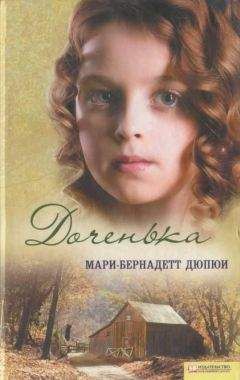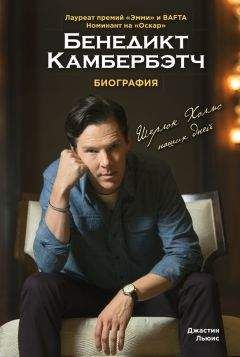Но, хоть я и не решилась пойти ужинать в отель «Империал», полностью игнорировать герра Мандля больше было невозможно. Судя по всему, он имел связи в политических кругах, а обстановка в Вене сложилась такая, что осторожность была необходима всем. Но я просто не знала, как реагировать на такое проявление внимания: до сих пор я встречалась исключительно с мягкими и уступчивыми молодыми людьми, близкими мне по возрасту. Поскольку плана действий у меня пока не было, я прибегла к помощи фрау Люббиг, попросив ее отвлечь шофера герра Мандля, пока я пройду мимо служебного входа и выйду через главный.
Мои каблуки выстукивали стаккато по тротуару — я подходила уже к Петер-Йорден-штрассе. Я мысленно отмечала знакомые дома соседей, шагая мимо них к нашему, как говорили родители, «коттеджу». Все жители Дёблинга называли так свои дома, что, однако, совсем не подходило им из-за весьма солидных размеров. Это было данью уважения английскому архитектурному стилю, в котором строились все здания этого района — большие, просторные, с закрытыми со всех сторон семейными садиками.
В нескольких кварталах от дома моих родителей свет стал как будто меркнуть. Я подняла взгляд вверх, на луну — не закрыли ли ее тучи, но нет, она светила все так же ярко. Никогда раньше я такого не замечала, но ведь я почти никогда и не ходила по нашему району ночью одна. Не оттого ли здесь кажется темнее, что совсем рядом с Петер-Йорден-штрассе раскинулся густой Венский лес, Винервальд, где мы с папой так любили гулять по воскресеньям?
Кроме нашего дома во всем квартале не было видно ни единого проблеска электрического света. На меня смотрели черные окна соседских «коттеджей», едва заметно озаренные тусклым светом свечей. И я вдруг вспомнила, почему здесь так темно. Многие из жителей Дёблинга, нашего своеобразного анклава, хотя в целом и не придерживались ортодоксальных религиозных обычаев, все же чтили традицию не пользоваться электричеством от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу. Я совсем забыла об этом: ведь мои родители этот обычай никогда не соблюдали.
В Дёблинге, еврейском квартале в католической стране, отмечали шаббат.
Глава четвертая
26 мая 1933 года
Вена, Австрия
Стоило мне перешагнуть порог, как я почувствовала знакомый запах. Еще не видя роз, я уже знала, что их тут полон дом. Боже мой, да зачем же этот герр Мандль еще и сюда их прислал?
Из гостиной доносились нестройные аккорды Баха на бехштейновском рояле. Дверь за мной захлопнулась, щелкнул замок, музыка смолкла, и мама окликнула меня:
— Хеди? Это ты?
Я передала пальто Инге, нашей горничной, и отозвалась:
— Кому же еще быть в такой час, мама?
Папа вышел из гостиной встречать меня. Держа в уголке рта деревянную трубку с замысловатым резным узором, он спросил:
— Как поживает наша императрица Елизавета? Ты опять «царила на сцене», как выразилась Die Presse?
Я улыбнулась папе — своему высокому, красивому, несмотря на седые виски и морщинки вокруг голубых глаз, папе. Даже в это позднее время, в двенадцатом часу, он был безукоризненно одет: в тщательно отутюженный темно-серый костюм с бордовым галстуком в полоску. Неизменно надежный, успешный управляющий одного из самых известных венских банков — Creditanstalt Bankverien.
Он взял меня за руку, и на мгновение мне вспомнилось детство — наши с ним субботние и воскресные послеобеденные часы, когда он терпеливо отвечал на все мои вопросы об окружающем мире и о том, как тот устроен. Мне разрешалось спрашивать о чем угодно — хоть об истории, хоть о литературе, хоть о политике, и я готова была сколько угодно сидеть с ним вдвоем, жадно наслаждаясь его безраздельным вниманием. Однажды в солнечный день, один из самых моих любимых, он целый час объяснял мне природу фотосинтеза, когда я поделилась с ним своими детскими размышлениями о том, что же едят растения; терпение, с каким он отвечал на мои неустанные вопросы о живой природе и физических явлениях, никогда не иссякало. Но этих часов было так мало: мама, работа и общественные дела требовали много времени, и на мою долю папы почти не оставалось. А без него в моей жизни были лишь нескончаемые уроки и домашние задания, однообразные повседневные дела с няней или, реже, с мамой, которая обращала на меня внимание только тогда, когда я сидела за пианино, а она бранила мою игру. Я обожала музыку, но садилась за инструмент только тогда, когда мамы не было дома.
Папа провел меня в гостиную, усадил в одно из четырех обитых парчой кресел, стоявших вокруг камина, в котором в этот прохладный весенний вечер горел огонь. В ожидании, когда мама придет и сядет с нами, он спросил:
— Проголодалась, моя маленькая принцесса? Можно попросить Ингу принести тебе чего-нибудь. Ты все еще такая худенькая после пневмонии.
— Нет, папа, спасибо. Я поела перед спектаклем.
Я окинула быстрым взглядом комнату, бесконечные семейные портреты на стенах, и без того слишком густо испещренных полосами обоев, и заметила, что кто-то — скорее всего, мама — красиво расставил по всей комнате дюжину букетов бледно-розовых роз. Папа только приподнял бровь, но ни слова не сказал о цветах. Мы оба знали: все расспросы мама возьмет на себя.
Мама вошла в комнату и налила шнапс в рюмку. Даже не произнеся ни слова, не встретившись со мной взглядом, она сумела яснее ясного выразить свое недовольство.
В комнате было тихо: мы ждали, когда мама заговорит.
— Судя по всему, у тебя появился поклонник, Хеди, — сказала она, сделав большой глоток шнапса.
— Да, мама.
— Чем же ты могла дать повод к таким демаршам? — Тон у нее был, как обычно, обвинительный. Я закончила по ее настоянию школу, но не вышла из нее готовой к замужеству, подающей надежды будущей хаусфрау, как она надеялась. Когда я выбрала профессию, которую она считала пошлой, хотя театральное искусство всегда высоко ценилось в Вене, она сделала вывод, что и поведения от меня остается ждать соответствующего. И, признаю, иногда я оправдывала ее ожидания, принимая ухаживания какого-нибудь молодого человека. Время от времени я позволяла отдельным поклонникам — будь то аристократ Риттер Франц фон Хохштеттен или стремительно восходящая звезда, мой коллега по фильму «Экстаз» Ариберт Мог — все то, что мама рисовала в своем воображении: это был мой тайный бунт против нее. А что мне терять, говорила я себе. Так или иначе она будет думать, что я занимаюсь всякими непристойностями. Кроме того, мне нравилось видеть, что я могу иметь над мужчинами такую же власть, как и над публикой, — нравилось покорять их.
— Ничего, мама. Я даже никогда не видела этого человека.
— С чего бы мужчина стал посылать тебе столько роз, если он ничего не получает взамен? Если ты его даже не знаешь? Может быть, этот человек видел тебя в этом непристойном «Экстазе» и решил, что ты доступная женщина?
Папа довольно резко перебил ее:
— Хватит. Может быть, это в знак восхищения ее игрой, Труда.
По-настоящему маму звали Гертрудой, а уменьшительным именем папа называл ее только тогда, когда хотел задобрить.
Пригладив выбившиеся из идеальной прически черные пряди, мама встала. Хотя роста в ней было немногим больше полутора метров, она казалась гораздо выше. Решительным шагом она подошла к письменному столу, где стоял букет с карточкой. Взяла серебряный нож для бумаги и вскрыла уже знакомый мне кремовый конверт.
Поднеся карточку в золотой рамке к свету, она прочитала вслух:
Герр и фрау Кислер, за эту неделю мне посчастливилось четыре раза увидеть вашу дочь в роли императрицы Елизаветы, и я хочу поздравить вас как родителей столь талантливой актрисы. Я желал бы представиться вам лично, чтобы испросить разрешения встречаться с вашей дочерью. Если вы не возражаете, я заеду к вам в воскресенье вечером, в шесть часов: это единственный вечер, когда в театре нет представлений.
Искренне ваш, Фридрих Мандль.