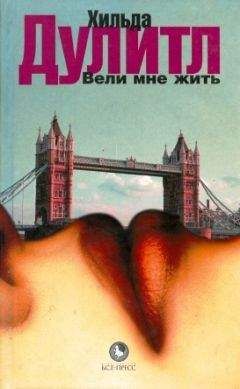Эта крепость — не быт, и к чертям её не пошлёшь. Даже буря бессильна против каменных стен. Ни ветром, ни ломом этот дом не взять. Вот только шторка на окне подрагивает, будто кто снаружи играет юбочкой, манит пальчиком.
— Ты, случайно, не оставила в своей комнате свет? — спросил Ван.
— Нет, конечно, — у меня нет электричества.
Он поднялся. Взял с полки полдюжины книг. Она не поняла, для чего — читать она не собиралась. А он, оказывается, и не думал предлагать ей читать. Когда она увидела, что он раскладывает книги на подоконнике, она воскликнула:
— Зачем ты это делаешь? Может, помочь?
— Нет, не надо. Просто знай: когда идёт буря, лучше прижать занавески книгами — вот, видишь?
Тут она вспомнила, как Эльза рассказывала ей о том, что береговая охрана оштрафовала Вана за то, что с моря в окнах его дома был виден свет. Она совсем об этом забыла. А ведь в любую минуту вблизи их дома может показаться военный катер.
Каждую минуту их может предать разъярившаяся стихия. Не стоит забывать: Ван и Фредерик — друзья.
— Мы же не хотим, чтобы нас выгнали к чертям, как Рико.
— Не-е-т, — отозвалась она. — Совсем не хотим.
Ей нравилось думать, что эта комната создана специально для неё. Собственно, то же самое она могла бы сказать о любом другом уголке в доме. Здесь каждая дверь, каждая приступочка, любая неровность подоконника, любой мало-мальски заметный уступ в стене говорили о чём-то родном и близком. Дом был заколдован, — это точно. А уж об этой комнате и говорить нечего: с самого начала, с самой первой их встречи в Лондоне Ван определил её особое назначение. «В доме много места», — сказал он ей. — «Выбирай любую комнату. Главное, чтоб тебе удобно было в ней работать». Так и повелось: комната нужна ей, чтобы работать, чтобы писать.
Дом был старый, не до конца обустроенный. За комнатой пустовала ещё одна. Эту же светёлку в одно окно устроили под самой крышей. Оборудовали небольшим камином. Ван распорядился, чтоб принесли стол и стул с сиденьем из плетёного камыша. Рядом поставили другой стул — низкий. На него положили раскрытый словарь. На стол водрузили печатную машинку. Стол повернули так, чтобы свет падал из-за плеча.
На рассвете солнце первым делом заглядывало в эту комнату и уж после обходило остальные. В окне, как в картинной раме, вставал пейзаж: гора, под горой добытые каменотёсами камни, сложенные дедовским способом, за горой — невидный глазу священный солнечный круг друидов. На переднем плане стена и остатки шурфа заброшенной оловянной шахты. Ёмкая, весомая картина. В расположении переднего ряда камней (справа от неё, — ей даже не надо было поворачиваться к окну, чтобы установить это) была некая странная симметрия, подобная греческому амфитеатру. У картины был греческий — точнее, аттический — подтекст.
Каждой маленькой детали на картине — камню ли, заходящему ли, восходящему солнцу, развалинам шурфа оловянной шахты, стволу могучего плюща — всему найдётся точное слово в этом греческом словаре, что лежит у неё под рукой на низком стуле возле стола. Она трудится над сценой хора, — вечной своей темой. Как каменотёс, как скульптор она стремится отсечь всё лишнее, работая то молотом, то резцом, добиваясь главного: чтобы строка легла на лист холодно и чисто.
Она смиренно начинала снова и снова; она знала, что никому на свете не сбить её с пути.
Удивительным образом греческие слова сочетались с каменной породой этого края.
Она беззаветно штурмовала непокорные греческие слова, зная, что никому на свете не сбить её с пути. Внутри самих слов прятались ещё другие слова. Если всматриваться в греческий символ подолгу и пристально, он рано или поздно откроет особый поворот, явит скрытый смысл, что поведёт тебя за собой как волшебная нить, как финикийская тропа, проложенная древними купцами. Она — тот же торговец, тот же меняла: выменивает старое золото, выискивает редкий товар — мирро почившего духа. Торгуется с каждым словом.
Она подолгу сидела, размышляла над словом, словно высиживала золотое яйцо. Потом закрывала словарь, стараясь забыть слова, — ведь она не учёный, она не переводом занималась: переводов и так достаточно. Она не «изучала» древнегреческий в привычном значении этого слова. Скорее, как слепая, она на ощупь «читала» слова по буквам, словно наскальные надписи, и каждый раз, узнавая слово, радовалась будто ясновидящая: глаз не различает, а душа видит. Лестен был ей этот дар, но принимала она его со смирением: сама открыла!
Любому под силу перевести значение слова. Ей же нужен был слог, фактура слова, самый знак — не затёртая монета, а новёхонькая, чеканная, только что с монетного двора. Она была не против старого подхода к слову как тщательно сберегаемому сокровищу, только сокровище-то прошло через столько рук, столько раз грамматисты взвешивали его и оценивали, что поистерлось оно, поблекло. А ей хотелось чеканить новые слова!..
…Она отодвигала печатную машинку и отдавалась на волю карандашу и записной книжки.
Всё не так, Рико. Ты был прав насчёт остывших алтарей. Только я подумала, что если бы тебе нужна была я, ты предложил бы мне подняться к тебе, в твою комнату. Откуда мне было знать, чего ты хочешь? Когда я коснулась твоего рукава, ты вздрогнул, отпрянул. Все только и ждали, что я поднимусь в твою комнату, то есть комнату Ивана, где жила Белла.
Нет, я была тебе не нужна. Наутро ты сказал, что слышал ночью, как я пела во сне, и проснулся заплаканный. Неужели это правда? Не понимаю, как можно было бросить такое, походя, при Эльзе, которая в это время мыла посуду в кухоньке за ширмой.
Такими вещами не бросаются.
Отними у меня моё дело, и всё кончится. Не согреешь алтарь, если нет алтаря. Ты прав: мужчине мужнино, женщине — женино, — тут я ошиблась. Только что с того? Пусть то, что я пишу, никуда не годится. Но, Рико, я не собираюсь бросать — я доведу свою работу до конца. Завершу сюжет, который начала вырезать на алтарной доске,{113} — я не могу иначе. Ты посмеиваешься над абстрактными образами моих персонажей — называешь их идолами. Что ж, ты прав. Рейф — не мраморное изваяние фавна, и даже не плохая копия Диониса. Да, я посвятила ему то стихотворение про цикламен, которое написала в Дорсете, в Корф Касл, и там же я написала твоего Орфея. Но ты прав. Он — не Дионис, а ты — ты не Орфей. Вы просто люди, англичане, сумасшедшие.
И Ван — тоже сумасшедший. Иначе он не позвал бы меня сюда. А ты уже, я чувствую, расставляешь сети, думаешь: «Ага, попалась мушка!» Ан нет — я не собираюсь отвечать на твои вопросы: «Какая у тебя комната? А где спит Ванио?» Почему не спросить прямо: «Вы переспали?» Так вот, я не собираюсь рассказывать тебе о своих или его чувствах. Интересный роман получается, а, Рико?
То-то! Оказывается, куклы не всегда танцуют под твою дудку. Почему? Другой сюжет! Не скажу, какой именно, — пока сама не знаю. Я всё оставила в Лондоне — и твои письма тоже. Зачем их сюда везти? Я помню их наизусть. Почему в своих нескончаемых романах ты не пишешь — кому-нибудь, любому читателю — так, как пишешь мне в своих письмах?
Я не буду торопиться отсылать это письмо. Пусть полежит, а я ещё поищу побеги и корни для своих, как ты выражаешься, диковинных мистерий. Ты сказал, что тот первый побег — это маргаритка, а я назвала его пижмой, а про другой ты написал, что это снежное дерево или подмаренник, или что-то в этом роде. Потом ты перестал сообщать мне их названия. Скажи на милость, почему?
Ведь это ты послал меня сюда. О чём ни спрошу: «Откуда в доме это? Откуда то?» — слышу один ответ: «Купили как-то в Пензансе, вместе с Рико».
Он показал мне магазин, где вы с Эльзой выбрали ярко-красную материю для кухонных штор, — тех, что заметила береговая охрана. Ты был неисправим — всё сигналил и сигналил. Даже в Дорсет подал мне знак — а Рейф тогда ещё не ушёл.
А ведь мог бы и подождать, пока он уйдёт, а?
Тут она не выдержала и расплакалась. «С какой стати это я? Наверное, от счастья. Я же первый раз по-настоящему счастлива». Трещины в половицах вели к двери, но расстояние было слишком невелико, чтоб «на глазок» определить перспективу, и всё равно она прищурилась, взвешивая, сравнивая: словом, взялась за старое, вновь ощутила себя прозревшей, ясновидящей. Её светёлка висела под скатом крыши — мансарда, крошечный чердак, ласточкино гнездо. Ну и пусть невелико: мало да своё! А что одна, тоже не беда. Захочет общения, в её распоряжении весь дом, где полно народу.
Возле двери стоял кувшин — такие в ходу у жителей Девоншира. Трудно сказать, зачем его поставили к ней в комнату: то ли в расчёте, что она будет рисовать, то ли для создания художественного, рембрандтовского эффекта, то ли напоминанием о свадьбе в Кане и хлебе насущном… Когда сегодня на рассвете солнце заглянуло под крышу, оно высветило шероховатую, зернистую фактуру двери — и мягкие тёплые тона глиняной поверхности кувшина. Эффект получился удивительный: вместо того, чтоб отражать свет в виде ореола, как обычно изображается на картинах, посвящённых свадьбе в Кане, глиняный кувшин поглощал, впитывал солнечный свет. Это было чудо. Всё было чудом.