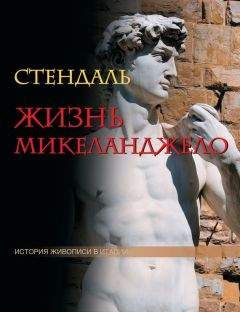— Держу пари, что этот «кто-то» был коммивояжером.
— Представьте себе, да, сударыня! — сказала Марта, раскрывая от удивления глаза.
Ламьель рассмеялась.
— А не намекал ли этот коммивояжер, что он имел честь пользоваться моей благосклонностью?
— Увы, это так! — сказала Марта, потупившись.
Ламьель расхохоталась так, что чуть не задохнулась от смеха и должна была прислониться к соседнему дереву.
Когда они возвращались в Руан, ее узнали какие-то молодые люди, которые видели ее каждый вечер в театре, и сунули в руку Марте монету с двумя записочками, быстро набросанными карандашом. Она хотела было передать их Ламьель.
— Нет, лучше сохраните их, — отвечала та. — Вы их отдадите господину Миоссану, когда он вернется, и он вам тоже за них заплатит.
Когда должно было начаться представление, Ламьель на мгновение пожалела, что нет Фэдора, но потом воскликнула:
— Честное слово, поразмыслив хорошенько, не жалею! Лучше уж пропустить спектакль, чем видеть, как герцог идет со своим неизбежным букетом.
Затем она побежала к хозяйке гостиницы.
— Не пожелали бы вы, сударыня, пойти со мной в театр, если я возьму ложу?
Хозяйка сначала отказалась, но потом согласилась и послала за парикмахером.
«А во мне действительно сидит дух противоречия», — сказала себе Ламьель. У нее оставался еще комочек зелени падуба, и она разукрасила им левую щеку.
Но ложа помещалась на сцене слева; она обратила на себя внимание всей изящной публики, и к полночи в гостиницу были доставлены три записки непомерной длины, написанные на этот раз чернилами. Она пробежала их с нетерпением, которое быстро перешло в отвращение.
— Это не так грубо, как у коммивояжеров, но зато ужасно пошло.
Ламьель была совершенно счастлива и почти забыла герцога, когда он появился через два дня.
«Уже!» — подумала она.
Она нашла его совершенно обезумевшим от любви. Мало того, он все время доказывал ей путем блестящих рассуждений, что любовь действительно свела его с ума.
«Это значит, — думала молодая нормандская крестьянка, — что вы станете еще скучнее, чем обычно».
В самом деле, за эти два дня свободы в Ламьель вселился мятежный дух, и она решительно восставала против скуки.
На следующее утро, когда они встали и он снова принялся целовать ей руки, она подумала: «Это существо приходит в смятение от всего, что с ним случается; как только ему нужно действовать самому, он оказывается человеком в двух томах: ему обязательно нужен какой-нибудь Дюваль».
Ламьель надавала ему поручений, велела расплатиться в гостинице. С просьбой ничего не говорить господину Миоссану, так как она готовит ему сюрприз, она распорядилась вызвать рабочих, которые сколотили ящики для всех изящных вещей, подаренных ей герцогом. Она уложила как чемоданы герцога, так и свои, и, когда около четырех часов увидела из окна, что он возвращается в гостиницу, спустилась ему навстречу и попросила отвезти ее в ***, деревню на Сене, где она хотела пообедать.
Из *** проехали прямо в театр; когда пробило восемь часов, она сказала герцогу:
— Оставайтесь в ложе и ждите меня. Я возьму карету и приеду через минуту. Следите по часам.
Она побежала в гостиницу, распорядилась отправить в Шербург чемоданы герцога — забравший их дилижанс отошел в половине десятого, — свои же чемоданы велела погрузить в дилижанс на Париж. У Фэдора было три тысячи франков; полторы тысячи она положила в чемоданы, адресованные в Шербург, а другие полторы тысячи — в свой. Играя с герцогом, она украла у него кошелек.
Трудно было бы описать восторг Ламьель в тот момент, когда дилижанс тронулся в Париж. Забившись в угол, с совершенно зеленой щекой, она смеялась и подпрыгивала на месте от радости, рисуя себе смятение герцога, когда он вернется в гостиницу и не найдет ни любовницы, ни денег, ни вещей. Первые часы Ламьель еще немного побаивалась: Фэдор мог нагнать их, прискакав на почтовой лошади. Но и на этот случай у нее было готово средство: надо было сделать вид, что она его не знает. Впрочем, она не преминула дать понять в гостинице, что сядет в дилижанс на Байё, и действительно по этой дороге и пустился за ней в погоню бедный Фэдор.
Как ни странно, эта ночь, проведенная в пути, это бегство от любезного и воспитанного любовника были для Ламьель самыми счастливыми моментами за всю ее жизнь. В Париже ее немножко пугали воры; выходя из дилижанса, она почему-то вздумала притвориться, что знает Париж, и осведомилась об одном большом отеле, название которого она якобы забыла. В результате ее поместили в отель X на улице Риволи, где ей отвели номер на пятом этаже, стоивший пятьсот франков в месяц.
Немного удивленная количеством слуг и роскошью этого заведения, она велела доложить о себе хозяйке. С таинственным видом и прося сохранить ее тайну, она попросила указать ей адрес какого-нибудь хорошего врача. Навел ее на эту хитрость один случай, рассказанный ей герцогом.
На следующий день она снова явилась к хозяйке.
— Сударыня, — начала Ламьель, — я первый раз в Париже. У меня нет горничной, и я очень боюсь, как бы ко мне не стали приставать на улице. Я хотела бы одеться мещанкой; не будете ли вы любезны сходить со мной в магазин и подобрать мне полный костюм такого рода?
Хозяйка гостиницы подивилась на эту девушку, одетую в очень дорогое платье и пожелавшую преобразиться в простую мещанку. Удивление г-жи Легран усугубило еще одно обстоятельство: когда Ламьель вошла к ней в будуар, ей, видимо, было очень жарко; она вынула носовой платок и стерла почти всю краску, уродовавшую ее щеку. Любопытство обострило внимание почтенной хозяйки: первым долгом она внимательно рассмотрела паспорт этой странной девушки и обошлась с ней так сердечно, что уже на следующий день Ламьель призналась ей, что, выведенная из себя ухаживаниями спутников, а в особенности относящихся к разновидности коммивояжеров, она воспользовалась советом, который дал ей другой путешественник, аптекарь по профессии, и вымазала себе щеку зеленью падуба.
Уже через два дня вся гостиница была в восторге от этой рослой девушки с несколько беспорядочными движениями, но прекрасно сложенной и применявшей столь своеобразную косметику. Г-жа Легран оказала ей еще одну любезность: по ее распоряжению в Сен-Кантене опустили на почте письмо, адресованное г-ну де Миоссану в X и составленное в следующих выражениях:
«Дорогой друг, или, скорее, господин герцог. Я восхищалась совершенством ваших манер. Ваше безграничное и беспримерное внимание ко мне почти лишают меня сил сказать вам одну вещь, которую вы, наверно, не дали бы мне выговорить. Это признание кажется мне жестоким, но необходимым для вашего счастья и для вашего спокойствия. Вы безупречны, но ваши любезности нагоняют на меня тоску. Я, кажется, предпочла бы самого обыкновенного крестьянина: он не старался бы говорить мне все время изысканные вещи и не пытался бы мне понравиться. Думаю, что я могла бы полюбить человека открытого характера, простого во всех отношениях, а главное, не такого воспитанного. Проездом в Шербург я оставила там ваши чемоданы и полторы тысячи франков».
Этого было достаточно, чтобы Фэдор устремился в этот город. Мчался он верхом, чтобы иметь возможность разглядеть всех путешествующих, попадавшихся ему по дороге. Несмотря на письмо Ламьель, он не отказался от безумной мысли, овладевшей им с момента бегства его возлюбленной, отыскать ее во что бы то ни стало. В Руане, оказавшись без любовницы, без денег и без белья, он чуть было не пустил себе пулю в лоб. Никогда еще человек не чувствовал себя таким растерянным. Все, что предвидела Ламьель, сбылось полностью.
Что касается Ламьель, то она совершенно забыла бы молодого герцога, ухитрившегося задушить любовь своими нежностями, если бы он не служил ей мерилом для оценки других мужчин.
У Ламьель было столько непосредственности в манерах и столько ветрености во всех повадках, что г-жа Легран привязалась к ней всей душой и не могла уже с ней расстаться; ей вскоре стало скучно сидеть в своем будуаре, если там не было девушки. Напрасно г-н Легран читал ей нотации и доказывал, что она поступает очень неосторожно, допуская до такой близости совершенно незнакомую ей девушку, г-жа Легран не знала, что ответить, но привязанность ее к нашей героине лишь росла. В этой гостинице жило несколько молодых людей, соривших деньгами; они волочились за г-жой Легран, которая ничего не имела против того, чтобы они заглядывали в ее будуар. Она с удовольствием заметила, — не преминув указать на это мужу, — что стоило им появиться, как молодая незнакомка умолкала, видимо, не желая привлекать к себе внимания.
Единственной страстью Ламьель было в то время любопытство; не было на свете существа, которое задавало бы больше вопросов; на этом, быть может, и основывалась привязанность к ней г-жи Легран: ей было приятно отвечать на вопросы и объяснять ей все на свете. Но Ламьель понимала уже, что необходимо быть уважаемой[35], и никогда не выходила из дома по вечерам. Ей очень недоставало театра, но воспоминание о коммивояжерах внушало ей осторожность.