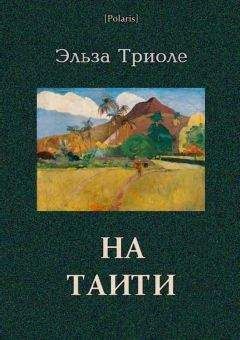А ведь она еще не старуха, подремывающая на стуле… Но ей уже был понятен этот отсутствующий взгляд стариков, отстраненных от жизни, которой живут все прочие. И только одни они, эти старики, понимают друг друга. В семейном альбоме своих воспоминаний одна лишь она распознавала лица. Особенно свое. Когда она пыталась листать альбом перед чужими, они лишь улыбались, дивились, возможно жалели… Глупцы, ведь это неминуемо приходит ко всем, разве что перестаешь жить еще до этого. Но воспоминания подобны вашему нутру. Это только свое, одному вам принадлежащее. Неприятное для других, необходимое для вас. Каждому свое! Со всем своим самым сокровенным!
Натали тихонько застонала… неужели сейчас она несчастнее, чем была в лагере? Даже теперь иной раз совсем по-глупому вспыхивает прежний пламень. Она вспомнила о Кики, о пуделе, который был у нее давно, очень давно. У Кики был рак желудка, но он еще бегал… Случалось даже, что, выследив крота, он рыл землю с прежним пылом, но сил у Кики оставалось мало, он тут же отходил прочь и рыть его заставлял просто инстинкт… Он отходил, ложился и лежал неподвижно на месте, потом вдруг начинал подавать хозяйке лапу: раз, два, десять раз… Чтобы выразить свои чувства или чтобы показать, какой он умник? Или чтобы она знала, что он еще здесь? Уж не стала ли сама она вроде Кики и тоже роет землю, почуяв крота?… А на самом деле у нее совсем нет сил. Она только притворяется, подает лапу Луиджи, Мишетте, десять, сто раз подряд… И чувствует, должно быть, то же самое, что Кики: «Я еще здесь, я вас люблю, если можете, сделайте что-нибудь для меня… Вы же всегда все для меня делали, вы мне всегда помогали… Я верю в вас! Что бы ни было, я вам признательна!»
Слезы катились по чуть, отекшим щекам Натали. Когда она оставалась одна, она, случалось, плакала. Так хорошо время от времени иметь право на слезы, не быть обязанной беспрерывно притворяться. Право видеть все без прикрас, право глядеть смерти прямо в глаза. Хотя так ли уж важно это право… Действительно так ли велика разница между небытием как таковым и сознательным небытием? Она плакала вовсе не из жалости к себе: ей просто казалось, что со слезами жизнь уходит мягче, легче, слезы как бы увлажняют тропу, по которой покинет ее жизнь. Бедная, бедная жизнь… Она питала нежность к жизни, к ее уродствам, к ее красивости, к ее красоте… Но что поделаешь?
Не отнимая ладони от груди, Натали повернулась на бок… В такие минуты, как сейчас, ей бы хотелось ускорить смерть. Если придется чудовищно мучиться, болеть… И не к чему советоваться с врачом, она и без него отлично знает, что у нее. Грудь… Бедный Луиджи, бедная Мишетта! Но если она ни о чем не жалеет, так почему же, почуяв влажные запахи земли в саду, она плачет… О, это просто рефлекс, повинуясь которому их Кики скреб лапами землю. А потом не останется даже рефлекса, и она будет ждать, ждать, уже стиснутая льдами… Будет ждать, когда этому придет конец. Физические страдания подгоняют время.
Этот дрянной мальчишка… Ложь… Ложь… в облике человека, в облике этого грязного шалопая. Цинизм… Она тоже была молода… Любовь… Много любви. Горы любви, великолепной, как настоящие горы, как снежные цепи гор, какой пейзаж, какие пейзажи, скалы и ущелья, долины, альпийские луга, орлы, эдельвейсы, розовые зори, клубящийся у ног туман, пухлые тучи, лазурное небо, звезды под рукой, колдовское зелье, свежесть молока… «Не доставит ли вам удовольствие общество молодого человека, мадам?» Ах, каким все стало чудовищным, неумолимым. Гнусный лагерь, без тени надежды, мразь, берущая верх. У нее отобрали дочку, отобрали у нее Кристо… Ох, эта жизнь, изблюю тебя из уст своих! Луиджи, Луиджи…
В дверь кто-то поскребся. Она не пошевелилась… Мишетта и Луиджи пошептались на пороге: «Спит» – и вышли на цыпочках. Натали приподнялась, взглянула на часы. Сегодня четверг, значит, Кристо у них обедает. После завтрака Луиджи водил его в Паноптикум. Натали встала с постели.
Когда Луиджи с Кристо поднялись из подвального помещения, где вместе возились над автоматом, который недавно принесли в починку, Натали уже сидела на своем обычном месте. Мишетта накрывала на стол… Кристо вихрем ворвался в столовую.
– А мы были в Паноптикуме, Натали…
– Сними курточку, поди помой руки, а потом расскажешь…
Есть Кристо не хотелось, он объелся мороженого в кафе на Больших бульварах и конфет, которыми Луиджи пичкал его всю дорогу… Первым делом он рассказал о кривом зеркале, которое стоит сразу при входе в музей. Входишь в коридор, длинный, длинный, длинный, а в конце зеркала – прямо обхохочешься! «Посмотри, Натали, вот какой я в зеркалах получался!» Кристо встал посреди комнаты: он поднимался на носки, втягивая щеки, присаживался на корточки, округляя руки, надувая щеки… Мишетта с суповой мясной остановилась в дверях посмотреть на Кристо. И все хохотали.
Кристо с блестящими от волнения глазами уселся за стол.
– Скажи, тебе там понравилось?
Кристо задумался. Ему хотелось найти наиболее точные слова, чтобы рассказать о музее бедняжке Натали, которая не выходит из дому.
– Они не двигаются… Еще хуже, чем куклы Миньоны. Там даже Миньоны нет, чтобы за них говорить! Просто торчат и ничего не делают. Луиджи, почему им не вставят в рот пластинку? Они тогда вроде бы говорили…
– Потому что об этом никто не подумал…
– Скажи им непременно, ладно? Они просто из раскрашенного воска, представь себе, просто из воска, Натали, а ведь теперь все делают из пластмассы! Луиджи, почему их не сделали из пластмассы?
– А почему ты решил, что они не из пластмассы?
– Мне показалось… Не знаю. Там есть Брижит Бардо, каноник Кир, Жан Кокто… Они тоже ничего не говорят, они вот какие… Тише! Молчите!
Кристо поднялся и среди всеобщего молчания начал принимать различные позы…
– Не знаю, убирают в музее или нет, – сказал он, садясь, – верно, не убирают, они страх какие пыльные. Как будто им сто лет. Мне больше понравились Марат и Наполеон. Они не такие старые.
– Значит, по-твоему, Брижит Бардо старше Наполеона?
– Наполеон но старый, это история, И ванна, где сидит голый Марат, и кругом кровь – это тоже история, значит не старое… А ихняя Брижит Бардо, она как автомат, электрический автомат, только она даже не автомат! Луиджи, почему они не двигаются? Это же просто стыдно!
Луиджи утвердительно кивнул головой:
– Ты прав. В 1882 году, в год создания Паноптикума, он был как бы газетой в лицах, заменял нашу теперешнюю кинохронику. А сейчас это просто устарелое заведение, которое напоминает волшебный фонарь. Однако заметь, он не лишен известной прелести: раньше в музей ходили из-за его, так сказать, актуальности, а теперь ходят из-за его живописности… Лично я с тобой согласен, мне он не по душе… Манекены, изображающие прежних или живых знаменитостей, похожи на могильные плиты. Кажется, будто все отступило куда-то в глубь времен, в пыльную тишину. Это просто неудачное подражание!
– Если бы они хоть двигались! – настаивал Кристо.
– Короче, успеха музей у вас не имел, – заключила Натали.
– Нет, мне было очень интересно…
Кристо не мог допустить мысли, чтобы такой чудесный день считался неудачным. Но честность взяла верх. Поэтому он добавил:
– Но как-то не по себе было… Про автомат знаешь, что у него внутри, и все понятно. А те стоят себе, и ничего непонятно. Может, у них душа есть?
– Что ты такое говоришь, Кристо? Не пугай меня! – Однако голос Натали звучал одобряюще спокойно. – Душа? Искусственная?… Они даже двигаться не умеют, им даже не догадались вложить в живот пластинку… С души не начинают.
– А что такое душа?
Натали ответила не сразу, положила себе крему.
– Ты сам об этом только что говорил… Сказал: «Может, у них есть душа?», не зная, что она такое. И все люди не знают, не только ты.
Луиджи не вмешивался в разговор. Кристо начал было говорить еще что-то, но тут раздался телефонный звонок: госпожа Луазель сказала, что пора Кристо возвращаться домой.
Натали приветливо встретила Беатрису с ее русским другом, шофером такси. Вот уже два года Беатриса приходила к Натали поговорить о нем, плакала, когда дела шли хуже, чем обычно, отчаивалась, но только сейчас ей впервые удалось залучить его сюда. Натали работала, предусмотрительно воздвигнув между рисовальной доской и гостями стопку книг: когда у тебя заняты руки, чувствуешь себя как-то свободнее, можешь говорить или молчать и никто на тебя не будет в обиде. Русский был одет, как обычно одеваются шоферы такси или рассыльные, развозящие по домам товары: в двубортной серой куртке, каскетку держал под мышкой. Беатриса в строгом английском костюме с меховым воротником и в кольцах была прелестна, как классическая влюбленная. Когда она сняла жакет, Натали в который раз восхитилась изящной линией ее груди, бедер, плеч. Настоящая красавица. Русский не глядел в ее сторону.