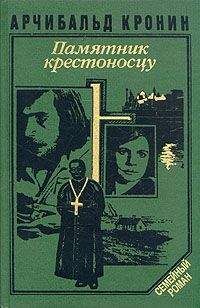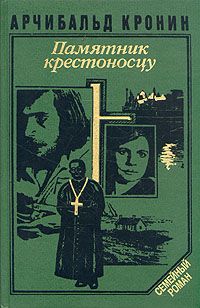Он беспрестанно, каждую минуту, стремился быть возле нее, и, как только она уходила, им овладевало беспокойство, и он чувствовал себя несчастным. Так остро и болезненно отзывалась на нем малейшая перемена в ее настроении, что его охватывало презрение к самому себе. В те редкие минуты, когда она была мила с ним, душа его ликовала. Порой, когда Эмми была расположена поболтать, она принималась расспрашивать Стефена о той единственной стороне его жизни, которая, по-видимому, только и могла интересовать ее.
— Это правда, что у твоих родителей grande propriete[21] в этом самом… в Сус…сексе? Много акров отличной земли?
— Не так уж много. — Стефен улыбнулся. — Это тебе Глин наболтал? Он преувеличивает.
— И ты должен был стать священником, но тебя выгнали из семинарии?
— Ты же знаешь, что я оставил ее по собственной воле.
— Для того, чтобы жить в этакой конуре? — В голосе ее звучало недоверие.
— Мне очень нравится эта комната… когда ты здесь.
Она пожала плечами, но не так презрительно, как обычно. Лесть легко находила доступ к ее сердцу. Такого рода дружелюбие, хотя ничего и не обещало ему, было все же куда приятнее убийственного равнодушия, с каким она обычно встречала все его попытки понравиться ей. И пока она, лениво потягиваясь, как кошка, позировала ему, он принялся рассказывать ей, ни на секунду не отрываясь от работы, различные истории из жизни Стилуотера, которые, как ему казалось, могли позабавить ее и развлечь. Когда запас воспоминаний иссяк, он умолк. С минуту она раздумывала, а затем неожиданно заявила:
— Конечно, я сама всю жизнь жила с артистами… среди артистов, — поправилась она. — Я и сама артистка. Я понимаю, что человек иной раз может всем пожертвовать ради искусства… Но только это делают те, кому и жертвовать-то, правду сказать, нечем. А ты — другое дело. Отказаться от bonne propriete,[22] которые ты мог бы унаследовать… — Она умолкла и пожала плечами. — Это просто глупо.
— Не так уж глупо, — улыбнулся он. — Ведь иначе я не встретился бы с тобой. — Его снова с такой силой вдруг потянуло к ней, что он замолчал, не смея поднять на нее глаза. — Разве ты не видишь, Эмми?.. Ты мне стала бесконечно дорога.
Она жестко рассмеялась и предостерегающе подняла палец.
— Это вы бросьте, мсье аббат, такого уговора, не было.
Стефен снова взялся за кисть, чувствуя, что потерпел поражение. И весь вечер унизительное воспоминание о том, как она дала ему отпор, терзало его. Он знал, что мог бы завоевать ее благосклонность, если бы пригласил ее пойти куда-нибудь вечером, — она обожала различные второсортные развлечения. Но у него не было ни гроша. Он жил примерно на полфранка в день, обходясь до шести часов вечера одной булочкой или яблоком, после чего в полном одиночестве съедал какое-нибудь блюдо в самом дешевом кафе.
Как-то раз, когда их сеансы уже подходили к концу, Эмми пришла позднее обычного и притом в необыкновенно приподнятом настроении. На ней был короткий красный, обшитый галуном жакет фасона «зуав» и новое желтое жабо. Стефен заметил, что она вымыла голову и причесалась.
— Ты изумительно хороша сегодня, — сказал Стефен. — А я уже перестал тебя ждать.
— У меня было деловое свидание с Пэросом. Пришлось ехать черт знает как далеко… на бульвар Жюля Ферри. Но зато я получила такой контракт, какой мне нужен.
— Это хорошо. — Стефен улыбнулся, хотя при мысли о ее скором отъезде сердце у него упало. — Когда же ты уезжаешь?
— Четырнадцатого октября. Отложили еще на две недели.
— Мне будет очень не хватать тебя, Эмми. — Он наклонился к ней. — Больше, чем ты думаешь.
Она снова рассмеялась, и ему бросилось в глаза, что зубы у нее очень ровные, острые и довольно редко посаженные. Оживленно, даже несколько аффектированно, она принялась рассказывать о том, как ей удалось взять верх над Пэросом и заставить его подписать контракт на тех условиях, которые ее устраивали.
— Говорят, у него доброе сердце, — сказала она в заключение, — а по-моему, он просто gobeur — слюнтяй.
Зная, что ей обычно бывает скучно слушать его, Стефен всячески старался, чтобы она подольше говорила о себе. Потом, когда стало смеркаться, он положил кисть и сказал:
— Можно я провожу тебя? Такой чудесный вечер…
— Ну что ж, — как всегда, пожала она плечами. — Если тебе так хочется…
Она надела жакет, они спустились с лестницы и вышли на бульвар Гавранш. Свет уличных фонарей сиял и дробился в теплом неподвижном воздухе, притихший город был прекрасен и исполнен таинственности. По тротуару, рука в руке, медленно прогуливались пары. Вечер, казалось, был создан для влюбленных. Боковой улочкой, спускавшейся к реке, они прошли мимо кафе, где в саду, освещенном китайскими фонариками, свисавшими с ветвей платана, танцевали под звуки аккордеона. Со стороны это выглядело весело и нарядно, и Стефен заметил, что Эмми вопросительно на него посматривает.
— Ты не любишь танцевать?
Краска медленно залила его щеки. Мучительно страдая от сознания своей неполноценности, он покачал головой и пробормотал смущенно:
— Боюсь, что я не очень-то гожусь для этого.
Так оно и было. Эмми снова пожала плечами.
— А на что ты вообще-то годишься, хотела бы я знать? — сказал она.
Они вышли на темную, мощенную булыжником набережную. Под низкими пролетами моста Сена бесшумно катила свои маслянистые зеленоватые воды. Словно раздосадованная его молчаливостью, Эмми, идя на полшага впереди, начала тихонько насвистывать мелодию, которую исполнял аккордеонист в кафе.
— Послушай, Эмми. — Стефен потянул ее за руку в какой-то подъезд. Скосив глаза, она поглядела, на него через плечо.
— Ну, что ты еще задумал, аббатик?
— Разве ты не видишь… как ты нужна мне!
Он обнял ее и крепко прижал к себе. С минуту она стояла неподвижно, бесчувственная, как камень, и равнодушно позволяла ему обнимать себя, затем резким нетерпеливым движением отпихнула его.
— Ты ровным счетом ничего в этом не смыслишь! — в голосе ее звучала издевка.
Оскорбленный, униженный, испытывая дрожь в похолодевших руках и коленях и понимая всю справедливость ее слов, он молча поплелся за ней. Они направились к улице Бьевр. У двери велосипедной мастерской Эмми как ни в чем не бывало взглянула на Стефена.
— Приходить мне завтра?
— Нет, — сказал Стефен с горечью. — Это не обязательно.
И он зашагал прочь, полный ненависти к ней и презрения к самому себе.
— Не забудь, — крикнула она ему вдогонку, — я хочу посмотреть картину, когда ты ее закончишь.
Он ненавидел ее за эту черствость, за полное отсутствие самой элементарной деликатности. Ей даже не было жаль его. Он твердил себе, что не желает ее больше видеть.
Проведя бессонную ночь, наутро он лихорадочно принялся за работу. Пока только центральная фигура получила отчетливое воплощение на холсте — всю остальную композицию нужно было еще разработать. Погода испортилась, с утра уныло накрапывал дождь, света было мало, убогую мансарду продувало ветром насквозь, но никакие трудности не казались Стефену сейчас непреодолимыми.
В своем стремлении создать реалистическое полотно он теперь каждый день после полудня отправлялся в Зоологический сад и делал там зарисовки. Затем, возвратясь в мастерскую, он переносил свои наброски на полотно, и в каждом жалком, рабски приниженном создании, рождавшемся из-под его кисти, была крупица его собственной горечи и унижения. К концу недели у него иссякли деньги. Он обшарил все карманы в поисках какой-нибудь завалявшейся монеты, чтобы, как всегда, купить себе булку, но не нашел ни единого су. Однако и это его не остановило, и он продолжал писать весь день, словно одержимый, охваченный яростью ко всему, что мешало его работе.
На другое утро он почувствовал слабость. Голова у него кружилась, но он все же заставил себя снова взяться за кисть. Однако после полудня искра здравого смысла пробилась сквозь туман, обволакивавший его мозг. Он понял, что без еды долго не протянет, а главное, что ему никогда не удастся закончить свою «Цирцею», если он не раздобудет средств к существованию. С минуту он раздумывал, присев на край кровати, затем встал, подошел к углу, где стояли холсты, написанные им в Нетье, и выбрал три наиболее ярких и сочных пейзажа. Это были хорошие картины, они нравились ему, вселяли в него веру в себя и в свой успех. В Париже, в этом храме мирового искусства, городе художников, такие прекрасные картины несомненно найдут покупателя. Он завернул холсты в оберточную бумагу, сунул их под мышку, перешел на другую сторону Сены и зашагал по Елисейским полям, направляясь к предместью Сент-Онорэ. Время полумер миновало — настало время решительных действий. Он предложит свои работы самому известному антиквару Франции.