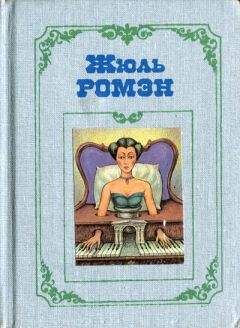— Да, почти.
— И корабль уже отплыл?
— Он отплывает послезавтра.
Она подумала немного. На ее лице появилась улыбка.
— Когда он отплывет, я дам тебе свою тетрадь.
— Отчего же не теперь?
— Я хочу, чтобы ты покинул «царство плоти».
— Но мне кажется, что я его уже покинул. Осталось написать еще три или четыре страницы, и корабль снимется с якоря…
— Ну, так вот! Ты мне покажешь это. Да, как только ты дойдешь до этого места, ты мне покажешь ту строчку, где будет написано: «Когда корабль снялся с якоря»…
— Именно эту фразу? Ты знаешь, что она немного торжественна и не совсем правильна. Мой пароход отшвартован у пристани. И у меня так же мало охоты называть его «кораблем», как говорить тебе «вы».
— Все равно. Ведь эта фраза будет для меня только знаком.
* * *
Я очень страшился дня и минуты нашего первого расставания, представляя их себе очень тяжелыми. Но обстоятельства до некоторой степени притупили мою чувствительность.
Как она и порешила, Люсьена пришла на пароход провести предшествующую отплытию ночь в моей каюте. Явилась она к обеду, после которого мне нужно было заняться разными делами. В ожидании моего возвращения Люсьена заперлась у меня.
В начале двенадцатого я закончил все свои дела и зная, что до завтрашнего утра меня никто не побеспокоит, пошел к ней. Я постучался в каюту, которая служила мне рабочим кабинетом. Как уже сказано, я занимал помещение из двух кают: кабинета и спальни, сообщающихся дверью, завешенной портьерой.
Я услышал, как щелкнула задвижка. Я вошел. Сначала я ничего не увидел. Люсьена, открыв мне дверь, поспешно скрылась в другой комнате.
Я приподнял портьеру. Я увидел Люсьену совершенно голой, прислонившейся к зеркалу маленького шкафа (отражая ее формы, зеркало увеличивало великолепие и мощь этого зрелища).
Начатая таким образом, наша ночь достигла вскоре крайних пределов любовного пыла. Она была как бы нашей второй брачной ночью, отличавшейся от первой исчезновением всякого страха, всякой сдержанности между нами. Люсьена преодолела всякие колебания при входе в «царство плоти» и держала себя в нем совершенно свободно.
Я почувствовал, что первым ее желанием было наполнить своей наготой, своими любовными позами, образами наших ласк и объятий все маленькое пространство, в котором мне предстояло жить, запечатлеть ими всю обстановку. Она уже знала, что зеркало шкафа сохранит для меня навсегда отражение ее форм. Она захотела, чтобы одно из наших объятий произошло на диване, стоявшем в моем кабинете. Затем усадила меня в кресло перед моим столом, где я обыкновенно работал, а сама прикорнула у моих ног, распустив по мне свои волосы. Наконец, несмотря на мое возражение, что это будет неудобно, и готовность предоставить ей на ночь мою койку, она настояла на том, чтобы закончить на ней ночь вместе в самых тесных объятиях. Мы провели так несколько часов, представлявших чудесное сочетание полусна и любви. Так как было очень жарко, мы сбросили простыни и одеяла. Свет был погашен. Каждый из нас чувствовал себя покрытым то телом другого, то теплым ночным мраком. Наши нервы были так напряжены, что малейшее невольное движение превращалось в наслаждение. Когда же нам случалось сравнительно долго оставаться в неподвижности, тело одного из нас, не прерывая вполне сна и не обращаясь к сознанию, умело симулировать одно из тех движений, сладострастие которых пронизывало все наше существо.
Утренний свет скорее разъединил, чем разбудил нас.
Мы лежали лицом друг к другу и вопросительно заглядывали один другому в глаза. Глаза Люсьены, казалось, говорили мне:
— Если выход в этом, разве не сделала я все, чтобы достигнуть его. И все-таки…
Но мои служебные обязанности совсем затормошили меня и не дали помечтать о смысле взгляда Люсьены. За шесть месяцев отпуска я немного проржавел. Несколько раз у меня было впечатление, что час отплытия застигнет меня врасплох, прежде чем я успею справиться со своими делами. Я почти обессилел.
Благодаря этому самые минуты расставания прошли для меня как в тумане. У меня было такое впечатление, будто я участвую в них наспех с тем, чтобы пережить их по-настоящему впоследствии. К тому же и обстановка мало подходила для проявления нежности. Мы не хотели выставлять себя напоказ перед моими сослуживцами, а равно присоединять наши излияния к излияниям пассажиров и их родных.
Даже когда снимали сходни, мы проявили большую сдержанность. Мне показалось, что и на пристани Люсьена продолжает улыбаться. Может быть, в глазах ее проступили слезы. Но она была уже слишком далеко от меня, чтобы блеск ее глаз мог затуманиться слезой.
Вернее говоря, к жизни без денежных забот.
Выражаясь точнее, я ее любил, главным образом, от двадцати до двадцати восьми или до тридцати лет.
Здесь в особенности, а также и в дальнейшем, настоящее время изъявительного наклонения употребляется исключительно для удобства изложения. Чтобы быть исторически точным, о большинстве из указанных черт следовало бы говорить в прошедшем времени.
Это почти то же, как я был бы неспособен посвятить себя так называемому «чистому знанию», отдавая себе отчет, что моей истинной целью является занять со Бременем факультетскую кафедру папаши такого-то.
Понятно, я не нахожу ничего плохого, когда думают иначе. Там, где я вижу комедию, ничто не мешает видеть другим балет. Я сам бываю близок к этой точке зрения в иные периоды легкой усталости. В остальное время я более реалистичен.
Персонаж из романа Флобера «Мадам Бовари». Аптекарь. Олицетворение мещанской тупости, подкрашенной литературно-научными сведениями и вольтерьянством. Примеч. ред.
Броуновское движение — наблюдаемое в ультрамикроскоп непрестанное движение мельчайших материальных частиц. Открыто знаменитым шотландским врачом Джоном Броуном (1735–1788). Примеч. ред.
Люди, по-видимому, хорошо это чувствуют. Наблюдая за поведением любого нормального человека, мы не можем сказать, что он боится собственных мыслей, но он не доверяет им. Обыкновенно он делает все, чтобы помешать им скопляться на месте. Такую предосторожность принимают, может быть, также и животные. Я наблюдал собак, которые вертелись на месте, вздыхали и ложились с решительным намерением заснуть. Взгляд их выражал при этом, что им надоело нечто совершавшееся внутри них.
Когда я писал это, я еще не знал того, что написала Люсьена по поводу этих самых событий. Иначе я высказывался бы не с такой уверенностью. И вся эта часть моего труда показалась бы мне бесцветной. Я сохранил ее лишь в качестве документа.
Эта рукопись появилась в печати под заглавием «Люсьена».
См. роман «Люсьена».