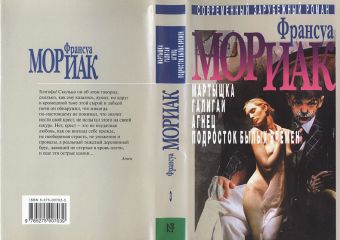Самое странное, что единственная моя опора — вера в вечную жизнь — не имела тогда для меня ни малейшего значения. За дефинициями малого катехизиса и запретами казуистов мне слышался издевательский хохот: эти болваны приравнивают к убийству акт добровольного ухода из жизни... Прежде всего не такой уж он добровольный, поскольку его необходимость заложена в нас так же, как все, что убивает нас изо дня в день, от рождения до самой смерти. В этот мой приезд земля Мальтаверна стала для меня именно тем, чем она была, — угрюмыми бесплодными ландами, которые рано или поздно выгорят дотла. Преображал ее мой собственный взгляд, магия моего взгляда. Так же как и Мари. Земля Мальтаверна и Мари навсегда остались такими, какие есть. Я потерял над ними власть преображения. Только бы Мари не подумала, что я хотел умереть из-за нее.
Я пытаюсь молиться, но слова лишаются всякого смысла, когда я произношу их, и это прибежище, где я так часто спасался и где, как я считал, можно погрузиться в созерцание, оборачивается зияющим провалом в пустоту, в ничто.
Но, повторяю, бывают дни облегчения. Неожиданно я снова обретаю вкус к жизни. Я знаю, это ненадолго, болезнь вернется, но я пользуюсь временем, отпущенным мне для передышки. Глубокой ночью я встаю и выхожу босиком на балкон, где мы с Мари стояли, опершись на перила. И мои глаза видят все это еще раз, да, все это было — небо с угасающими звездами, вознесенные к небу вершины сосен, и мои глаза, смотревшие на них, и сжимавшееся от отчаяния сердце. Это было, я лгал, утверждая, что ничего не было, и, если я потерял ключ от этого бессмысленного мира, это еще не значит, что ключа нет.
Часы облегчения приходили все чаще, пока не произошел случай, о котором я сейчас расскажу. Я и правда думал, что это только случай, а это был тот поворотный пункт, где судьба подстерегала меня и схватила за горло, словно все мои мысли о самоубийстве были предвестием беды, готовой обрушиться на всех нас.
Хотя в сентябре никто уже не купается возле мельницы господина Лапейра — вода там холодна как лед, — но в этот день было так тепло, что я на всякий случай захватил с собой купальный костюм. Без сомнения, меня не покидала мысль о возможности покончить все разом в этот день: ведь я, наверное, буду там один. Меня страшил конец Анны Карениной, но не конец Офелии — скорее всего, я втайне знал, что инстинктивно начну делать движения, которые не дадут мне утонуть. У меня мелькали какие-то неясные мысли о возможности несчастного случая. Я представлял себе горе матери, горе Мари. Будут говорить то, что говорят в таких случаях: предполагать судорогу, кровоизлияние. Свидетелей не будет.
Спускаясь по песчаной дороге к мельнице, я с досадой увидел, что в пруду плещется какой-то одинокий купальщик. Вода слишком холодна, долго он там не пробудет. Я решил подождать, пока он освободит мне место, и скользнул в гущу папоротника, откуда мог наблюдать за ним, сам оставаясь незамеченным. Есть особое удовольствие — обычно в нем не признаются, но я признаюсь — смотреть на того, кто нас не видит, даже не знает, что мы здесь, и думает, что он один. Поистине удовольствие, доступное только богу. Очень скоро я заметил, что мой купальщик был купальщицей — правда, такой тоненькой и длинноногой, что легко было ошибиться. Но, пожалуй, уже не маленькой девочкой. У девочек не поймешь — девочки никогда не бывают детьми, детство им заказано. Эта, очевидно, была еще девчушкой, она купалась в мальчишечьем купальнике. Девица из местечка никогда бы себе этого не позволила. Она вышла из воды, уселась на берегу на солнышке, чтобы обсохнуть, огляделась вокруг. Был полдень — тишина и безлюдье. Она проворно спустила бретельки купальника, невинно обнажив худенькие плечики и едва наметившуюся грудь. То, что я почувствовал, совсем не похоже на то, что может подумать Донзак, — не сладострастие фавна. Нет, маленькие девочки еще не вызывают у меня дурных мыслей. Мне показалось, будто кулак, сжимавший мое горло, внезапно разжался (если бы я только знал!), будто кто-то убрал ладони, закрывавшие мои незрячие глаза, и я вдруг прозрел. Уже одно это создание было чудом, а в мире таких миллионы — в том мире, которого я не знал и в который, впрочем, ничто и никто не заставит меня вступить, если я предпочту сидеть в своей комнате, где одни только книги и нет ни одного человека.
Поднявшись, девочка долго стояла под лучами солнца, и так далеки были от меня нечистые мысли, что, глядя на нее — пусть это важно только для меня одного, — я, как всегда при виде прекрасного юного тела, ощутил со всей несомненностью, что бог есть. Бог существует, вы видите сами. И тот же голос, который кричал мне в ухо: «Все перед тобой, все тебе дано, убивай и ешь...» — тот же голос шептал: «Но ты можешь выбирать: и отказаться от всего, и искать меня, и в этом единственный выход».
Девчушка исчезла в зарослях папоротника и скоро появилась снова, в коротенькой юбчонке, не слишком красивая, насколько я мог судить издали: круглая гребенка туго стягивала ее волосы, и лоб казался слишком высоким.
Но я видел ее без платья и знал, что она прекрасна — не красотой, запечатленной в уже сложившихся чертах, а той, что таится в изменчивых линиях, складывающихся в пору созревания. Я подглядел мгновение между зарей и рассветом, или, вернее, между рассветом и утром, — чудо, которое продлится недолго и по-настоящему еще не началось.
Я дал ей уйти и пошел следом, держась чуть поодаль. Она шагала, то чинная и серьезная, как взрослая девушка, потом, вдруг подпрыгнув, как козленок, ныряла в чащу папоротника, наклонялась, что-то там собирала и снова шагала дальше. Неожиданно сухая ветка хрустнула у меня под ногой. Она обернулась, поднесла ручонку к глазам, чтобы рассмотреть, кто это идет за ней, и вдруг — может быть, она узнала меня? — бросилась бежать со всех ног и исчезла за поворотом тропинки. Когда я подошел к повороту, ее уже и след простыл — должно быть, скрылась в лесу.
Возвращаясь с мельницы, весь поглощенный мыслями о вспугнутой купальщице, я издали увидел, что мама поджидает меня на крыльце. Она крикнула, что мне пришла телеграмма, и, когда я подошел, протянула ее мне, уже вскрытую:
— Я ее вскрыла, естественно! Это Симон... хватает же наглости!
Я прочел: «Необходимо срочно увидеться. Телеграфируйте возможность приехать завтра Таланс».
— Если хочешь послушать моего совета, потребуй, чтобы он сначала написал, в чем дело.
— Нет, он скромнейший человек. У него, должно быть, есть серьезные причины. Я поеду завтра же утром. Надо только предупредить шофера.
— Разумеется! И автомобиль твой, и шофер твой.
В предрассветном тумане петухи Мальтаверна перекликались с петухами дальних ферм. «Крик, повторяемый тысячью часовых». Я был почти уверен, что вызывает меня Мари и что я застану ее у Симона. Мне это было даже не слишком любопытно, я твердо решил уклониться от бесполезных объяснений; когда имеешь дело с комедианткой, нет надобности притворяться, будто веришь в реальность создаваемого ею персонажа, даже если она сама в него верит и умеет обмануть себя. Донзак говорит о романах Бурже, что это грошовая психология Да, именно такой медной монетой мы расплачиваемся друг с другом. А кроме того, хотя я и обрел сейчас какую-то передышку на своем пути, я был в полном изнеможении, я уже ничего не чувствовал. Сидя один в автомобиле, я смеялся при мысли, что из всех моих претензий к Мари всплыло на поверхность только то, что сказала она Симону о крапиве на берегу Юра, о мухах, о двуколке и о Низанском вокзале, — ее отречение от Мальта-верна, она отреклась от него, неблагодарная, недостойная, идиотка!
Ее не было у Симона, когда я приехал, но она должна была прийти к завтраку. Бард беснуется, сказал Симон, оттого, что Мари бросит на час лавку. Она была в отчаянии, что сама не рассказала мне о своем будущем замужестве, которое сводилось для нее только к тому, чтобы книжная лавка не попала в чужие руки. По признанию Симона, он слишком сгустил краски, описывая Мари, в какую ярость я впал, когда он без всякой подготовки сообщил мне о ее планах, думая, что мне все уже известно.
— Вы передаете каждое мое слово, — упрекнул я его с раздражением. — Вы способны все испортить. Скромность — это, к сожалению, добродетель, которой научить нельзя.
Он слабо защищался. Вероятно, на его совести было немало подобных грехов.
Мари приехала на трамвае около полудня. То, что должно было вот-вот на меня обрушиться, но чего я тогда даже отдаленно не мог представить, теперь, когда это произошло, мешает мне точно припомнить сбивчивые слова, которыми обменялись мы с Мари в комнате Симона, где он оставил нас одних. К чести Мари, должен сказать, что, увидев мое печальное лицо, она уже не думала больше ни о ком, кроме меня. Таким, видимо, я обладаю даром — пробуждать в женщинах заботливую и восторженную мать. Она нежно сжала мое лицо обеими руками и сказала:
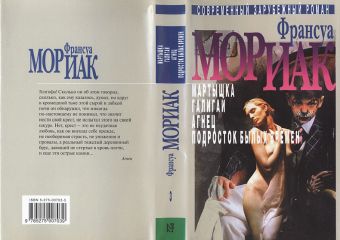
![Франсуа Мориак - Том 3 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/135894/135894.jpg)