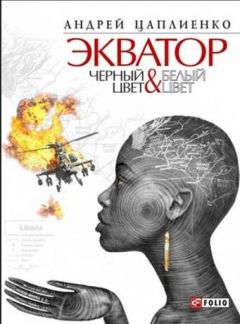И суслик снова стал ждать. Сидел у своей норы в этом красивейшем уголке и свистел, но ни одна сусличиха так и не пришла к нему; делать нечего, пришлось ему собраться в дорогу и покинуть эти благодатные места. Он поднялся выше по холму и нашел пристанище в саду, полном георгин, но хозяева этого сада каждую ночь ставили на сусликов западню.
Док просыпался трудно и медленно, как выходит из воды толстяк. Его сознание несколько раз выныривало на поверхность и снова проваливалось во тьму. На его бородке краснел след от губной помады. Он открыл один глаз и тут же зажмурился, ослепленный переливчатым блеском одеяла. Немного погодя глаз опять открылся, перешел с одеяла на пол, увидел в углу разбитую тарелку, бокалы, стоящие на перевернутом вверх ногами столе, лужи пролитого вина, сотни прилипших к полу окурков, книги, валявшиеся на полу тяжелыми уснувшими бабочками. Все это усеяно мягкими завитками красной бумаги и все еще пахнет дымом от сгоревших шутих. В открытую дверь на кухню Док разглядел гору тарелок из-под бифштексов и сковородки, облепленные жиром. Дым от шутих перебивался тонкой смесью запахов виски, вина и духов. На один миг глаз задержался на кучке заколок в самом центре комнаты.
Док повернулся на бок, приподнялся на локте и выглянул в разбитое окно. Консервный Ряд был тих и залит солнцем. Дверца котла распахнута. Дверь Королевской ночлежки плотно закрыта. На пустыре в траве мирно спит человек. Двери «Медвежьего стяга» запечатаны наглухо.
Док встал, пошел на кухню, в коридоре у туалета зажег газ под колонкой. Затем вернулся, сел на край кровати и стал сжимать и разжимать пальцы ног, созерцая разгром. Сверху, с холма, донесся колокольный звон. Когда колонка зашумела, Док пошел в ванную, принял душ, надел синие джинсы и рубаху. Лавка Ли Чонга была закрыта, но Ли Чонг увидел, кто у двери, и повернул ключ. Пошел к холодильнику и, не дожидаясь заказа, достал кварту пива. Док заплатил ему.
— Холосо повеселились, — сказал Ли. Его карие глаза, сидящие в подушечках, слегка воспалились.
— Отлично! — ответил Док и пошел в лабораторию, сжимая в руке холодную бутылку. Намазал хлеб арахисовым маслом и стал есть, запивая пивом. На улице было совсем тихо, не слышно ни одного прохожего. У Дока в голове зазвучала музыка — скрипка и виолончель. Они играли мягкую, мирную, исцеляющую мелодию, откуда — невозможно сказать. Он ел бутерброд, пил пиво и слушал. Допив пиво. Док пошел на кухню и вынул из мойки всю грязную посуду. Налил в мойку горячей воды, бросил туда мыльную стружку, пустил воду, и в мойке поднялась шапка белой легкой пены. Затем пошел по комнатам собирать целые бокалы и опустил их в горячую пенистую воду. На плите чуть не до потолка возвышалась стопка слипшихся тарелок, измазанных мясной подливкой и белым застывшим жиром. Док освободил на плите место и стал ставить туда вымытые бокалы. Затем отпер дверь дальней комнаты, принес альбом Грегорианского песнопения и поставил пластинку с «Патер ностра» и «Агнус Деи». Ангельские неземные голоса полились в лабораторию. Они были чисты и прекрасны. Док осторожно мыл бокалы, боясь, что они звякнут и все испортят. Голоса мальчиков вели мелодию от самых низких нот к самым высоким просто, но с такой полнотой звучания, какой не услышишь ни в чьем другом исполнении. Когда пластинка кончилась. Док вытер руки и выключил проигрыватель. Увидел книгу, лежащую на полу, почти под кроватью, поднял ее и сел на кровать. Минуту читал про себя, потом губы его зашевелились, он стал читать громко, внятно, делая паузу после каждой строки.
И поныне
Я не внемлю ученым мужам многодумным,
Что за стенами башен истратили младость.
Ибо в умных речах не смогу отыскать и помина
Ее милого лепета, с коим мы в сон погружались:
Слов простейших, мудрейших, порой шаловливо-лукавых,
Как вода, вкус живого всего перенявших.
Вода в мойке остыла, пена оседала и тихо побулькивала. Прилив в это утро был необычно сильный, и море билось о скалы у самой высокой отметины.
И поныне
Я не вижу пунцовых цветов, кипарисов,
Синих гор величавых и холмов зеленых,
Бирюзового моря и звезд. Ибо в давнюю пору
Свет нездешних очей я узрел и ладоней порханье, —
И тогда для меня вылетал соловей из тимьяна;
И тогда для меня дети в струях резвились.
Док закрыл книгу. Он слышал, как волны плещут о сваи, как шуршат в клетках белые крысы. Док пошел в кухню, попробовал воду в мойке, подлил горячей. И стал громко декламировать этой мойке, белым крысам, ceбe:
И поныне
Знаю я, что отведал я в жизни блаженство,
На великом пиру пил из чаши заветной.
Ибо в краткое то и безвестно мелькнувшее время
Мне любимая дева наполнила очи чистейшим
Вечным светом…
[Из санскритской поэмы «Черный златоцвет», перевод c английского А. Псурцева]
Он вытер глаза тылом ладони. Белые крысы бегали и карабкались у себя в клетке. За стеклом террариума гремучие змеи лежали спокойно, глядя в пространство хмурым туманным взглядом.
КОНЕЦ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА
Лето 1936 года Стейнбек провел среди сезонных рабочих Калифорнии: жил в их палатках и землянках, работал вместе с ними на полях, ел из одного котла. Он собирал материал для серии статей и очерков под общим названием «Цыгане периода урожая». Все увиденное потрясло писателя. Во-первых, оказалось, что подавляющее большинство сезонников — это не пришельцы из Мексики, а обычные американские граждане, коренные жители страны, «находчивые и изобретательные американцы, но испытавшие ад засухи» в родных краях, «мелкие фермеры, потерявшие свои фермы».
Картины жалкого существования сезонников не выходили из головы, он решает написать о них новую книгу, назовет ее «Дела Салатного города». Но работа продвигалась медленно.
Пройдет три года, Стейнбек совершит еще не одну поездку в лагеря сезонников, проедет на автомашине по их пути из Оклахомы в Калифорнию, прежде чем он напишет книгу, которая в окончательном варианте получит название «Гроздья гнева». С момента публикации в марте 1939 года роман «Гроздья гнева» на многие годы стал фактором не столько литературной, сколько общественно-политической жизни страны. До выхода в свет книги Стейнбека само собой считалось, что переселенцы в Калифорнию являются ленивыми, беспомощными, невежественными и безответственными людьми. И вдруг оказалось, что это самые обыкновенные, не лишенные опыта и сметки фермеры, просто попавшие в беду по воле природы и банков. Проблема сезонников вошла в повестку дня политической жизни страны.
Большая печать развернула широкую кампанию против романа и его автора. Газеты печатали письма «сезонников», которые опровергали все, о чем рассказывалось в романе. Вышло несколько брошюр, описывающих райские условия, якобы созданные для сезонников Калифорнии. Но были свидетельства и другого порядка. Известный журналист впоследствии ставший редактором журнала «Найшн» Кэри Маквильямс летом 1939 года издал книгу «Фабрики на полях», в которой документально подтверждались описанные в романе Стейнбека условия. Супруги президента США Элеонора Рузвельт заявила, что чтение романа произвело на нее «неизгладимое впечатление». В конце 1939 года сенатский комитет по вопросам образования и труда начал слушания о положении сезонных рабочих в Калифорнии,
С течением времени страсти вокруг романа улеглись, и он прочно занял место в мировой литературе, как одно из высших достижений американской литературы XX века.
…Вскоре после публикации «Квартала Тортилья-Флэт» Стейнбека в Калифорнии навестил редактор и издатель Паскаль Ковичи, Стейнбек привез Ковичи в небольшой городок Монтерей, центр производства консервов из сардин. Они прошлись по Приморскому бульвару, на котором размещались консервные фабрики, зашли в Западную биологическую лабораторию Эда Рикеттса, поговорили со многими знакомыми писателя. На Ковичи эта поездка произвела огромное впечатление.
— Вот о чем надо писать, — убеждал он Стейнбека — Опишите этот городок, этих людей, все это так и просится на бумагу,
Стейнбек и сам подумывал об этом, но прошел еще не один год, прежде чем этот замысел вылился в повесть «Консервный Ряд».
Хотя повесть и не является автобиографическим произведением, в ней наиболее полно отразились личность и мысли автора, изображены многие его добрые знакомые и в первую очередь Эд Рикеттс.
Среди критиков повесть успеха не имела. Однако некоторые критики разглядели в ней черты классической пасторали с ее противопоставлением развращенного города нравственно чистой деревне, с ее интересом к миру чувств и быту простых людей.
Противоречие между Доком, образованным и по-своему благоустроенным представителем среднего класса, и необразованным, жаждущим примитивных утех Маком и его товарищами отражало, по мнению этих критиков, извечные противоречия буржуазного общества и в то же время являлось своего рода протестом против подавления простого человека Молохом капиталистического города. При этом подчеркивалось, что Стейнбек перенес действие в трущобы промышленного города, которые в современной Америке являются наиболее подходящим местом для такого рода событий. Критики обращали внимание на классовые противоречия между героями повести и на то, что будущее, по мнению автора повести, будет принадлежать классу трудящихся.