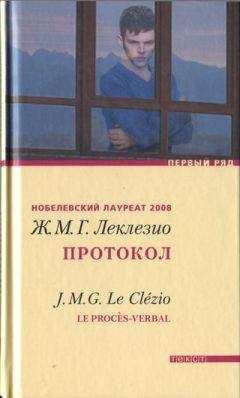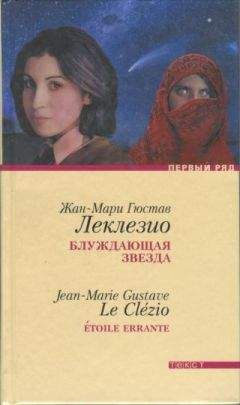Что это, не от этих ли солнечных бликов на подвижном зеркале волн у меня помутился разум? Мне кажется, что я оказался вне времени, в ином мире, настолько отличном, настолько далеком от всего, что я знал прежде, что мне никогда больше не вернуть того, что я покинул. Потому-то и кружится у меня голова, потому и подкатывает к горлу тошнота: я боюсь оторваться от того, чем я был, бросить всё это без надежды на возвращение. Каждый прожитый час, каждый день походят на морские волны, что набегут на форштевень, приподнимут на мгновение корабль и исчезнут в тянущемся за ним пенном следе. И каждая отдаляет меня от дорогого мне времени, от голоса Мам, от Лоры.
Этим утром капитан Брадмер подошел ко мне на корме:
— Завтра или послезавтра мы будем на Родригесе.
— Завтра или послезавтра? — переспрашиваю я.
Так заканчивается мое плавание. И потому, без сомнения, всё мне кажется иным.
Люди приканчивают мясные припасы. Мне настолько отвратителен самый вид этой падали, что я довольствуюсь рисом с пряностями. Вот уже несколько дней по вечерам на меня нападает лихорадка. Несмотря на зной, я кутаюсь в попону и дрожу от озноба в глубине трюма. Что делать, если тело вдруг изменит мне? Я нашел у себя в сундучке купленный перед отъездом флакон с хинином и принимаю таблетку, сглатывая ее со слюной.
Незаметно темнеет.
Поздно ночью я просыпаюсь весь в поту. Рядом со мной, прислонившись спиной к переборке, сидит по-турецки человек с черным лицом, причудливо освещенным неверным светом коптилки. Я приподнимаюсь на локте и узнаю рулевого, его неподвижные глаза. Он говорит мне что-то певучим голосом, но я плохо понимаю смысл его слов. Я слышу, как он спрашивает меня про клад, который я собираюсь искать на Родригесе. Откуда он знает? Конечно, ему рассказал капитан. Он спрашивает, я не отвечаю, но это его не смущает. Он выжидает, задает другой вопрос, потом еще один и еще. Наконец он теряет к этому интерес и заводит разговор о Сен-Брандоне, куда однажды, как он говорит, отправится умирать. Я представляю себе его тело, распростертое среди черепашьих панцирей. И засыпаю, убаюканный звуками его речей.
На подходе к Родригесу
Остров показывается на линии горизонта. Он вырастает из моря на фоне желтого вечернего неба, и его высокие синие горы возвышаются над темной водой. Может быть, это птицы, с криками кружащие над нами, предупредили меня о его появлении?
Чтобы лучше видеть, я иду на нос. Паруса раздуваются от западного ветра, и форштевень спешит за убегающими волнами. Корабль взмывает с волны на волну. Горизонт похож на натянутую нить. Остров то поднимается, то исчезает за пенистыми гребнями, вершины гор словно встают со дна океана.
Ни разу ни одна земля не производила на меня такого впечатления: как похожи на вершины Трех Сосцов эти горы, только они еще выше — вздымаются непреодолимой стеной. Рядом со мной на носу стоит Казимир. Он с радостью показывает мне вершины, называет их имена.
Солнце село за остров, и горные вершины резко выделяются на фоне бледного неба.
Капитан велит убрать часть парусов. Матросы карабкаются на реи, чтобы взять рифы. Со скоростью волн мы несемся к темному острову, сверкают в сумеречном свете паруса — будто крылья морских птиц. Я чувствую, как по мере приближения к берегу растет внутри меня волнение. Что-то заканчивается. Свобода, счастье от пребывания в море остаются в прошлом. Теперь надо будет искать пристанище, говорить, расспрашивать — соприкасаться с землей.
Медленно опускается ночь. Мы идем в тени высоких гор. К семи часам «Зета» входит в узкий фарватер, двигаясь на красный фонарь, горящий в конце пирса. Она идет вдоль рифов. Я слышу голос моряка, промеряющего глубину у правого борта: «Семнадцать, семнадцать, шестнадцать. пятнадцать, пятнадцать…»
В конце фарватера начинается каменный пирс.
Падает в воду якорь, скрежеща, разматывается цепь. «Зета» замерла у причала, и матросы, не дожидаясь, пока будет спущен трап, спрыгивают на берег, громко переговариваясь с толпой встречающих. Я стою на палубе, впервые за столько дней, может даже месяцев, полностью одетый и обутый в ботинки. У моих ног — уложенный сундучок. Завтра после полудня, закончив обмен грузами, «Зета» отправится в обратный путь.
Настало время прощаться с капитаном Брадмером. Он пожимает мне руку, явно не зная, что сказать. Приходится мне самому пожелать ему удачи. Черный рулевой уже спустился в трюм, где лежит, наверно, уставив неподвижный взгляд в закопченный потолок.
Я схожу на берег, неся на плече сундучок. Порывистый ветер едва не валит меня наземь. Оглянувшись, я еще раз смотрю на «Зету»: изящный силуэт четко вырисовывается на фоне бледного неба, наклонные мачты опутаны сетью снастей. А может, вернуться, взойти обратно на борт? Четыре дня — и я снова в Порт-Луи, сяду на поезд, пойду под мелким дождиком к дому в Форест-Сайде, услышу голос Мам, увижу Лору.
На причале меня дожидается какой-то человек. В свете фонаря я узнаю богатырскую фигуру Казимира. Он забирает у меня сундучок и идет рядом. Он покажет мне единственную гостиницу на острове, рядом с Домом правительства, ее держит один китаец, кажется, там можно и поесть. Я иду за ним в ночь, по улочкам Порт-Матюрена. Я на Родригесе.
Родригес, Английская лощина, 1911 год
Так, зимним утром 1911 года (думаю, это был август или начало сентября), я добираюсь наконец до холмов, возвышающихся над Английской лощиной, где предстоит развернуться моим поискам.
До этого, в течение долгих недель, месяцев, я исходил весь Родригес — с юга, где напротив острова Гомбрани открывается еще один проход сквозь рифовый барьер, через горы Манго, Патата и Бон-Дье в центральной части острова до Малагасийской бухты, с ее нагромождением черных базальтовых скал, на севере. В своих поисках я руководствовался выписками из книги Пенгре. «К востоку от Большого порта, — писал он в 1761 году, — не было вдоволь воды, чтобы удерживать нашу пирогу, или же вóды эти, сообщавшиеся с большим морем, были слишком бурны, чтобы нести столь утлое судно. Посему г-н де Пенгре отослал пироги обратно, тем путем, которым они приплыли, с приказом вернуться за нами на следующий день к Впадине среди Больших Известняковых камней…» И далее: «Склоны гор Четырех Проходов отвесны, и поскольку там почти не имеется рифов, а берег открыт всем ветрам, море бьется о него со столь яростной силой, что отваживаться на проход этим путем было бы более чем неосмотрительно». Описание Пенгре, которое я читал при дрожащем свете свечи в гостиничном номере в Порт-Матюрене, напомнило мне письмо одного старого моряка, заключенного в Бастилии, то самое, что навело отца на след клада: «На западном побережье острова, там, где море бьется о берег, есть река. Следуйте за ее течением, и вы придете к роднику, а рядом с родником увидите тамариндовое дерево. В восемнадцати футах от тамаринда, под каменной кладкой, сокрыты несметные сокровища».
Ранним утром, дрожа от нетерпения, я отправился в поход вдоль побережья. Перейдя мост Дженер, обозначающий границу города, я прошел дальше и у маленького кладбища перебрался вброд через реку Бамбу. С этого места дома вокруг исчезают, дорога вдоль берега сужается. Я поворачиваю направо и иду по тропе, ведущей к строениям английской телеграфной компании «Кейблз энд Вайалесс», что находится на вершине холма, возвышающегося над мысом Венеры.
Здания телеграфа я обошел стороной, возможно, из опасения повстречать англичан, которых на Родригесе побаиваются.
С замиранием сердца поднимаюсь я на вершину холма. Теперь я уверен: именно отсюда в 1761 году Пенгре наблюдал за транзитом Венеры, задолго до того, как сопровождавшие в 1874 году лейтенанта Нита астрономы дали мысу Венеры его название.
Яростный восточный ветер чуть не сбивает меня с ног. О подножие утеса бьются короткие волны, проникающие с океана через проход между рифами. Прямо подо мной — здания «Кейблз энд Вайалесс», длинные деревянные бараки, покрашенные серой краской и обшитые металлическими листами с заклепками, — как пароходы. Чуть выше, среди пальм вакоа, белый домик директора с зашторенной верандой. В этот час телеграф еще закрыт, лишь на ступеньках склада сидит и курит, не глядя на меня, одинокий негр.
Я продолжаю свой путь меж зарослей и вскоре добираюсь до края утеса, откуда открывается обширная долина. И я понимаю, что наконец нашел место, которое искал.
Английская лощина широко раскинулась по обе стороны устья Камышовой реки. С моего места хорошо видна вся долина, до самых гор. Я различаю каждый куст, каждое дерево, каждый камень. Долина пуста — ни дома, ни малейшего следа человеческого присутствия. Только камни, песок, тонкая линия речки да пучки пустынной растительности. Я следую взглядом вверх по течению реки, туда, где в глубине Лощины высятся еще темные горы. Мне вдруг вспоминаются наши походы к ущелью Мананава, когда мы с Дени останавливались, словно на пороге запретной территории, прислушиваясь к пронзительным крикам «травохвостов».