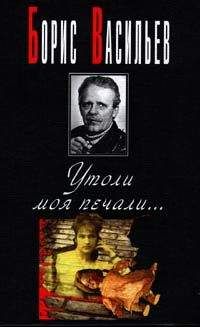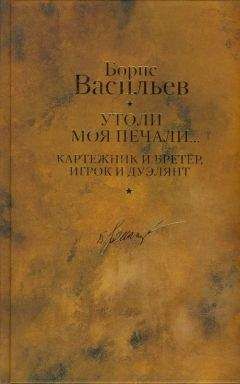Ознакомительная версия.
Наконец какой-то из рядов зацепил Надю и потащил за собой, потому что она упорно не опускала сжатых перед животом кулаков. К счастью, ее поволокло, развернув лицом в сторону нового движения, и Надя тут же покорно подчинилась ему, торопливо на семенящем ходу встраиваясь в его ритм. И засеменила неизвестно куда, то утыкаясь лицом в мокрую от пота рубаху впереди, то ощущая тычки в собственную спину.
Кто-то кричал. Боже, как кричал!.. Последним криком. Самым последним в жизни…
Но те, у кого оставался хоть какой-то остаток сил, а с ним и надежда на спасение, не кричали. Они бежали молча, мелко-мелко семеня ногами и стараясь не отрывать их от земли. Многие скользили на собственных ступнях, как на лыжах, и кровавый след их истерзанных ступней втаптывался в пыль поспешавшими следом, потому что здесь не было и не могло быть последних. В толпе не бывает ни первых, ни последних, в ней нет концов и нет начал, в ней все равны великим равенством перед смертью. Единственным всеобъемлющим равенством для всего сущего на земле. Об этом знал каждый, попавший в гущу живых, об этом знала и безмолвно вопила каждая живая косточка. И все это вместе помалу копилось и в человеке, и в каждой его клеточке, а накопившись до предела, приобретало иное качество. Масса людей со своими характерами, походкой, лицом, темпераментом, возрастом, наконец, превратилась в Живое Безголовое Чудовище, клеточкой которого стал каждый человек: в толпу, повязанную единой волей самоуничтожения. Мыслящее начало растворилось в тупом коловращении, в скольжении без смысла и цели, в движении ради движения, потому что остановка всегда означала чью-то мучительную смерть.
И такая остановка вдруг случилась в том потоке, в котором покорно двигалась Надя. Где-то впереди, в желтой мгле пыли и сознания. Личной воли уже не существовало, она уже перетекла, растворившись в общей воле толпы. Остались одни ощущения, главным из которых стал ужас. Не осмысленный страх, а дикий, животный ужас детства, сна, внезапного падения в пропасть. Это было ощущение неминуемого конца, и Надя восчувствовала его, увидев вдруг под самыми ногами груду бьющихся на земле и друг на друге еще живых человеков. Вероятно, она бессознательно остановилась, потому что ее сильно толкнули в спину. Она упала на еще копошившихся, еще живых людей и тут же быстро-быстро поползла по ним куда-то вперед от того последнего толчка, уже решительно ничего не ощущая и не чувствуя. Ни живой плоти под собою, ни ударов, ни рук, ни ног. Ее схватили за юбку, но она выскользнула из нее, поползла дальше, а ее хватали за руки, за ноги, за остатки белья, за волосы, цеплялись, рвали, а она ползла и ползла, вырываясь из цепких умирающих рук тех, по которым она ползла. Ползла со всей мыслимой быстротой, пока не ударилась головой о нижний брус балагана. Между брусом и землей была узкая щель, и она, распластавшись, втиснулась, пролезла под пол балагана, и на нее сразу обрушилась беспросветная тьма.
Прошло всего пятнадцать, от силы – двадцать минут с того момента, когда разом поднявшаяся из оврага толпа ринулась к буфетам, захватив своим мощным потоком Надю и Феничку. Втащила их внутрь, отрезала Надю от Фенички с ее последним криком «Барышня-а!..», повлекла своим путем, счастливо обвела стороной от буфетов с их темными очередями и вытолкнула на площадку, где стояли карусели, гладко отполированные столбы с парой сапог наверху, качели, эстрады и балаганы для выступлений артистов на веселом народном гулянье.
А Феничку задавили в узком – всего-то с аршин шириной – проходе между соседними буфетами еще тогда, когда Надю только-только выволокла толпа на площадку, в первый круг ее ада.
1
Вечером 17 мая, накануне народного гулянья на Ходынском поле, в Большом театре давали торжественное представление, на котором должен был присутствовать государь с государыней и все великие князья, съехавшиеся в Москву на коронацию. Их оказалось столько, что пришлось существенно расширить Царскую ложу за счет соседних лож, доведя количество мест в ней до шестидесяти трех. Партер сверкал мундирами, аксельбантами, эполетами и орденами, среди которых совсем затерялись немногочисленные фраки. Ложи ослепляли бриллиантами, прикрывавшими весьма смелые декольте. Платья дам, заказанные загодя специально ради этого вечера у самых модных портных Москвы, Петербурга, а то и Парижа, поражали своей изысканностью и тонко подобранными оттенками тканей, но и при этом великолепии нарядов весьма многие дамские глазки с досадой и острой завистью оглядывали ложу, в которой сидела статная особа в прямо-таки немыслимом, сказочно скромном наряде, стоившем, по оценкам записных модниц, целое состояние.
Перешептывались:
– Супруга миллионщика.
– Говорят, у него откуп на все убранство Москвы.
– Что вы говорите? Это же…
– Да уж, нагрел руки…
Варвара изо всех сил старалась казаться равнодутной, и ей это удавалось. Они были вдвоем с Романом Трифоновичем, со вздохом и отвращением втиснувшим свою коренастую мужицкую фигуру во фрак. Надя идти решительно отказалась, Николай и Вологодов были заняты по службе, а генерал Федор Иванович появлялся временами, поскольку и в торжественные вечера продолжал исполнять обязанности при министре двора графе Воронцове-Дашкове, и ложа их в до отказа переполненном зрительном зале вызывающе зияла пустыми креслами.
– Из мужиков ведь, – зло шипели усыпанные бриллиантами светские кумушки, равно как и их обвешанные орденами мужья.
После появления в несуразно длинной Царской ложе императорской фамилии, после грома аплодисментов, криков «Ура!» и дважды исполненного гимна раздались первые такты увертюры и наконец-то поднялся занавес. Давали первое действие и финал оперы «Жизнь за царя» и балет Петипа «Жемчужина».
– Прочитать тебе, кто исполняет?
– Ну прочитай, – со вздохом согласился Хомяков.
Ему было скучно и тошно, поскольку на роль статиста он решительно не годился, а партия сегодня была не его. Хотелось выпить добрую рюмку коньяка и закурить сигару, но сейчас об этом не могло быть и речи.
Варвара раскрыла толстую – с добрую тетрадь – программу с тисненным на белой обложке золотым двуглавым орлом, полистала страницы в изящных виньетках с рисунками Самокиш-Судковской и Первухина.
– Антониду поет госпожа Маркова, Сабинина – Донской, Сусанина – Трезвинский. Запевала – сам господин Кошиц.
– Весьма рад, – буркнул Роман Трифонович.
– Затем балет…
Дрогнула штора, и в ложу скользнул Федор Иванович. В парадном генеральском мундире, со всеми орденами, бантами и лентами и распаренным лицом.
– Фу, кажется, всех рассадил.
– Ты сегодня – в роли капельдинера? – усмехнулся Хомяков.
– Сегодня, дорогой мой, день воскрешения местничества: даже члены Государственного совета сидят не ближе пятого ряда кресел. А уж обид, обид!.. Пропустим по глотку, Роман Трифонович? В горле першит от их неудовольствий.
– Куда же вы? Второй занавес пошел… – с досадой заметила Варвара.
– Вот и мы пойдем, – сказал Хомяков, выбираясь. – Им – петь, нам – пить. Каждому свое, дорогая.
В гардеробной ложи, скрытой тяжелой портьерой от зрительного зала, размещались четыре кресла, столик и дамское трюмо с пуфиком перед ним. На столике уже стояли бутылки и бокалы, вазы с фруктами и сладостями. Федор Иванович промокнул лоб платком и рухнул в кресло, позволив себе даже расстегнуть тугой воротник мундира. Роман Трифонович разливал коньяк.
– Хочешь, развеселю? – усмехнулся Федор Иванович. – Мне доподлинно известно, что обер-полицмейстер Власовский заменил добрую половину капельдинеров на своих агентов именно на это представление. Так сказать, усердие не по разуму.
– Отчего же не по разуму? – пожал плечами Роман Трифонович. – Чиновники в России размножаются, как хрен. Одного выкорчуют – пять на его месте вырастает, а службы не прибавляется, вот и приходится усердствовать. Лучше скажи, что тебе о Петербурге известно. Стачки продолжаются?
– На Резиновой мануфактуре и Обводном канале. У тебя как, не балуют?
– Балуют, когда выгодно. А сейчас невыгодно. Еле с заказами управляются, а я сверхурочные ввел.
Генерал сделал добрый глоток, пожевал губами, подумал, прикрыв глаза набрякшими веками. Потом, вдруг решившись, наклонился к Хомякову, зашептал:
– Знаешь, государь при незнакомых конфузится. Говорить начинает отрывисто, а глаза бегают. А великого князя Сергея Александровича так просто слушается. Сам тому свидетель.
– Кто слушается, тот и боится.
– Тише! Тут ушей кругом… Знаешь, как у него глаза бегают?.. – Федор Иванович неопределенно помахал кистью, изображая бегающий взгляд государя, одним глотком допил коньяк и протянул рюмку за новой порцией.
– Духа не боишься?
– У меня орешек припасен. Зажую.
Ознакомительная версия.