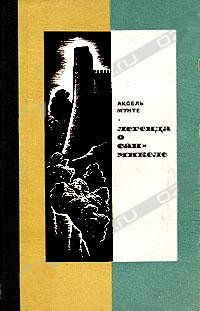— Смотри веселее, Фриц! — воскликнул мой хозяин после третьей бутылки мозельвейна. — Не вешай носа! Я знаю, что ты не при деньгах и что у тебя какие-то неприятности. Ну, ничего, выпей еще винца, и мы обсудим дело. Я уже десять лет вожу покойников и научился разбираться в людях. Ум — это еще не все, а ты, видно, родился под счастливой звездой, иначе ты не сидел бы здесь со мной. И теперь тебе представляется возможность, которая не повторится. Отвези свой гроб в Швецию, пока я съезжу в Россию, и со следующим поездом возвращайся в Гейдельберг. Будешь моим компаньоном. Пока жив профессор Фридрих, работы хватит на двоих, не будь я Захария Швейнфус! В Швеции тебе надеяться не на что — знаменитых врачей там нет, а в Гейдельберге их полно. Лучше Гейдельберга ты себе места не найдешь!
Я сердечно поблагодарил моего нового друга и сказал, что ответ дам утром, когда наши головы немного прояснятся. Через несколько минут мы уже крепко спали бок о бок на полу вагона. Я отлично выспался, чего нельзя было сказать о моем щенке. Когда поезд остановился у перрона любскского вокзала, было совсем светло. На перроне уже ждал служащий шведского консульства, которому предстояло отвезти гроб на шведский пароход. Дружески распрощавшись с горбуном, я поехал в шведское консульство. Как только консул увидел таксу, он сообщил мне, что ввоз собак в Швецию воспрещен, так как в северной Германии было несколько случаев бешенства. Конечно, я могу поговорить с капитаном, но он уверен, что тот откажет мне наотрез. Капитан был в очень плохом настроении, так как моряки не любят возить покойников. Все мои просьбы были тщетны. Я вспомнил уловку, которая смягчила сердце начальника станции, и решил попробовать ее еще раз. Вальдман облизал ему все лицо, но не помогло и это. Тогда и прибег к своему последнему козырю и назвал имя своего брата. Да, конечно, он знает коммодора Мунте, они мичманами вместе плавали на «Ванадисе» и были большими друзьями. Неужели у него хватит жестокости оставить любимую таксу моего брата в Любеке на попечение чужих людей?
Нет, на это у него не хватило жестокости, и через пять минут вальдмаи был ужо заперт в моей каюте, но с условием, что в Стокгольме я сам тайно сумею пронести его на берег. Я люблю море, пароход был хороший, я обедал за капитанским столом, и все на борту были со мной очень любезны. Стюардесса, правда, насупилась, когда ей утром пришлось убирать мою каюту, но стала нашей союзницей, едва только нарушитель порядка облизал ей лицо — она никогда не видела такого очаровательного щеночка! Когда вальдман тайком удрал на палубу, матросы начали с ним играть, а капитан старательно глядел в другую сторону. Пароход пришвартовался у стокгольмской пристани поздно вечером, и я спрыгнул с носа на землю с вальдманом на руках. Утром я отправился к профессору Бруцелиусу, который показал мне телеграмму из Базеля: мать умершего юноши поправляется, и похороны откладываются на две недели до ее возвращения. Профессор выразил надежду, что я буду еще в Швеции — ведь мать, несомненно, захочет узнать подробности о кончине своего сына, и, разумеется, мне следует присутствовать на похоронах. Я сказал, что собираюсь погостить у брата, а затем должен буду вернуться в Париж к моим пациентам.
Я так и не простил брату то, что он передал мне наше страшное наследство — мамзель Агату. Тогда я написал ему гневное письмо. К счастью, он, казалось, забыл все это. Он объявил, что очень рад меня видеть — они с женой надеются, что я погощу у них в нашем старом доме не меньше двух недель. Два дня спустя он выразил удивление, что столь занятый врач, как я, покидает своих больных на такой длительный срок — когда я собираюсь уезжать? Моя невестка стала холодна как лед. Людей, которые не любят собак, можно только пожалеть, а потому мне оставалось только взять рюкзак и отправиться со своим щенком в пешее путешествие. Утром, когда я уезжал, у моей невестки разыгралась головная боль, и она не вышла к завтраку. Я хотел зайти к ней попрощаться, но брат посоветовал мне этого не делать. Я не стал настаивать, так как оп объяснил, что горничная обнаружила под моей кроватью новую нарядную шляпу своей хозяйки, ее вышитые туфли, боа из перьев, два тома «Британской энциклопедии», разорванные в клочья, останки кролика и ее любимого котенка — с почти отгрызенной головой. Ну, а турецкий ковер в гостиной, цветочные клумбы в саду и шесть утят… Я посмотрел на часы и сказал брату, что люблю приезжать на станцию загодя.
— Олле! — крикнул брат старому кучеру моего отца, когда коляска покатила. — Ради бога, постарайтесь, чтобы доктор не опоздал на поезд!
Через две недели я снова был в Стокгольме. Профессор Бруцелиус сообщил мне, что утром приехала мать и похороны назначены на следующий день — я, конечно, должен на них присутствовать. Далее, к моему ужасу, он сообщил, что бедная женщина во что бы то ни стало хочет еще раз взглянуть на сына, и на рассвете думают открыть гроб. Разумеется, я не стал бы сам бальзамировать труп, если бы такая возможность могла прийти мне в голову, я знал, что поступил неправильно, хотя намерения у меня были самые лучшие, и если гроб откроют, глазам присутствующих может представиться ужасное зрелище. Первой моей мыслью было бегство. Я мог бы уехать в Париж с вечерним поездом. Затем я решил остаться и доиграть свою роль до конца. Времени терять было нельзя. Благодаря влиятельной поддержке профессора Бруцелиуса, хотя и с большим трудом, мне удалось добиться разрешения вскрыть гроб для произведения общей дезинфекции, в необходимости которой я почти не сомневался. После полуночи я спустился в склеп под церковью в сопровождении кладбищенского сторожа и рабочего, который должен был открыть оба гроба. Когда крышка внутреннего гроба была снята, оба они отступили назад в почтительном страхе перед ликом смерти. Я взял фонарь сторожа и приоткрыл лицо покойника. Фонарь упал на землю, и я, шатаясь, попятился, словно пораженный невидимой рукой.
Я до сих пор не понимаю, как мне удалось сохранить присутствие духа в ту ночь. Наверное, тогда мои нервы было просто стальными.
— Все в порядке, — сказал я, быстро закрывая лицо покойника. Завинчивайте крышку — дезинфекция не нужна, тело в прекрасном состоянии.
Рано утром я пришел к профессору Бруцелиусу и сказал, что зрелище, которое я увидел ночью, будет преследовать бедную мать всю жизнь — он любой ценой должен: воспрепятствовать тому, чтобы гроб открыли.
Я был на похоронах. С тех пор я всегда их избегал. Гроб несли шестеро школьных товарищей покойного. Священник произнес трогательную речь о том, что бог в своей неисповедимой мудрости повелел, чтобы эта молодая жизнь, столь богатая радостями и надеждами, была оборвана жестокой смертью. Но пусть те, кто скорбит сейчас у его безвременной могилы, обретут утешение и мысли о том, что вечный покой он обрел в родной земле. Его близкие будут знать, куда им приносить цветы, где им молиться. Хор студентов из Упсалы по обычаю спел:
Integer vitae scelerisque purus[68].
C того дня я возненавидел эту прекрасную оду Горация. Мать юноши, которую поддерживал ее престарелый отец, подошла к могиле и возложила на гроб венок из ландышей.
— Это были его любимые цветы, — сказала она с рыданием.
Его друзья по очереди подходили с цветами и сквозь слезы бросали на гроб прощальный взгляд. Хор пропел старинный псалом:
Покойся с миром!
Могильщики начали засыпать гроб. Церемония окончилась.
Когда все ушли, я подошел и посмотрел на полузасыпанный гроб.
— Да! Покойся с миром, угрюмый старый воин. Покойся с миром! Пусть не преследуют меня больше твои широко открытые глаза, иначе я сойду с ума. Почему ты так гневно взглянул на меня ночью, когда я открыл твое лицо в склепе под часовней? Неужели ты думаешь, что мне было приятнее увидеть тебя, чем тебе меня? Или ты принял меня за грабителя, который вскрыл твой гроб, чтобы украсть золотую икону, лежащую на твоей груди? Ты подумал, что тебя сюда завез я? Нет, это был не я. Быть может, это сделал сам дьявол в образе пьяного горбуна. Кто же, кроме Мефистофеля, этого вечного насмешника, был способен подстроить тот жестокий фарс, который разыгрался тут? Мне даже казалось, что в звуки псалма вплетается его язвительный смех, и да простит мне бог, но я и сам чуть было не рассмеялся, когда твой гроб опускали в могилу. Но что тебе до того, чья это могила? Ты не можешь прочитать имени на мраморном кресте, и что тебе до него? Ты не слышишь голосов живых над тобой, и что тебе до того, на каком языке они говорят? Ты спишь не среди чужих, а среди братьев. Как и шведский юноша, который был похоронен в сердце России, где трубачи твоего старого полка протрубили последнее прости над его могилой. Царство мертвых не имеет границ, у могилы нет национальности. Вы принадлежите теперь к одному народу, и скоро приобретете одинаковый вид. Одна и та же судьба ждет вас, где бы вы ни упокоились — быть забытыми и распасться в прах. Таков закон жизни. Покойтесь с миром!