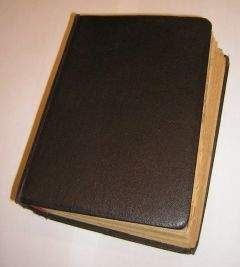Подпоручик Дуб не промолвил ни слова и, покачивая головой, ушел. Но тотчас же снова вернулся и сказал Швейку: — Заметьте себе, вы все, что наступит время, когда вы у меня взвоете!
Больше он ничего не мог придумать, а потому опять ушел в штабной вагон, где капитан Сагнер как раз допрашивал какого-то неудачника из 12-й роты, которого привел фельдфебель Штрнад; этот храбрый воин уже заранее начал принимать меры к своей вящщей безопасности в окопах, стащив для этой цели обитую жестью дверь свинарника. Он стоял перед командиром, выпучив от страха глаза и оправдываясь тем, что хотел взять дверь с собою для устройства прикрытия от шрапнели, чтобы было «надежнее».
Этим инцидентом подпоручик Дуб воспользовался для большой речи о том, как должен вести себя солдат и в чем состоят его обязанности по отношению к родине и монарху, нашему высшему военачальнику и верховному вождю. А если в батальоне оказываются такие элементы, то необходимо их истреблять, наказывать и сажать под арест. Это словоизвержение было настолько неуместно и пошло, что капитан Сагнер похлопал провинившегося солдата по плечу и сказал ему:
— Ну, что ж, если вы в самом деле искренно думали то, что говорите, то поймите, что это чушь, и больше таких вещей не делайте. А теперь отнесите дверь туда, откуда вы ее взяли, и убирайтесь ко всем чертям!
Подпоручик прикусил губу, будучи убежден, что, собственно говоря, спасение разлагающейся дисциплины в батальоне зависит единственно от него одного. Поэтому он еще раз обошел весь район станции. Недалеко от одного склада, на котором было написано крупными буквами на венгерском и немецком языках, что здесь запрещается курить, он увидел сидевшего на земле солдата. Солдат читал газету, которая так закрывала его, что не видно было его погон. Подпоручик крикнул ему: «Встать!» Оказалось, что это был солдат венгерского полка, стоявшего в резерве в Хумене.
Подпоручик Дуб тряхнул его за плечо; тогда мадьяр встал, сунул газету в карман и, не считая даже нужным отдать честь, пошел по направлению к улице. Подпоручик Дуб, словно в тумане, последовал за ним, но тот прибавил шагу, а затем обернулся и, глумясь, поднял руки кверху, чтобы подпоручик Дуб ни минуты не сомневался в том, что тот сразу определил принадлежность его, подпоручика Дуба, к чешскому полку. Наконец, мадьяр пустился бежать и исчез среди ближайших домиков на противоположной стороне улицы.
Чтобы как-нибудь показать, что он не имеет никакого отношения к этой сцене, подпоручик Дуб важно зашел в одну из лавочек на этой же улице, смущенно указал на моток черных ниток, положил их в карман, расплатился и возвратился в штабной вагон. Затем он приказал батальонному ординарцу позвать его денщика, Кунерта, и сказал, передавая ему нитки:
— Мне обо всем приходится заботиться самому. Ведь вы же наверно забыли взять с собою нитки.
— Никак нет, господин подпоручик, не забыл. У меня припасена целая дюжина.
— А ну-ка, покажите-ка мне, да только сейчас же. Или вы думаете, что я вам верю?
Когда Кунерт вернулся с целой коробкой черных и белых катушек, подпоручик Дуб сказал:
— Ну-ка, посмотри, какие нитки ты купил, и какой моток купил я. Посмотри, какие они у тебя тонкие и как легко рвутся, и, наоборот, какое усилие надо сделать, чтобы разорвать мои. В походе нам дряни не нужно, в походе все должно быть самое лучшее… Забирай свои катушки и ожидай моих дальнейших распоряжений, и запомни: в другой раз ничего не делай от себя, своим умом, а приди спросить меня, когда хочешь что-нибудь купить. Я не пожелал бы тебе узнать меня, потому что ты с плохой стороны меня еще не знаешь…
Кунерт ушел, и подпоручик Дуб обратился к поручику Лукашу:
— Мой денщик — очень смышленый человек. Иногда он что-нибудь сделает и не так, но вообще он прекрасно соображает. А лучше всего в нем его абсолютная честность. В Бруке я получил от моего шурина из деревни посылку: пару жареных молодых гусей, — так поверите ли, он до них даже не дотронулся. А так как я сам не мог их достаточно быстро съесть, то он предпочел дать им протухнуть. Вот что значит дисциплина. Правда, всякий офицер должен сам воспитать своих солдат.
Чтобы показать, что он нисколько не интересуется болтовней этого идиота, поручик Лукаш отвернулся к окну и сказал:
— Ах, да, сегодня же среда.
Чувствуя потребность высказаться, подпоручик Дуб подошел к капитану Сагнеру и начал конфиденциальным, товарищеским тоном:
— Послушайте, капитан Сагнер, какого вы мнения о…
— Виноват, одну минуточку, — перебил его капитан Сагнер и поспешно вышел из вагона.
Тем временем Швейк и Кунерт разговаривали о своих господах.
— Где это ты все время пропадал, тебя совсем и не видать было? — спросил Швейк.
— Да ведь ты же знаешь, с моим самодуром всегда какая-нибудь возня. Каждую минуту он зовет меня и спрашивает о вещах, до которых мне, собственно, нет никакого дела. Между прочим, он спросил меня, дружу ли я с тобой, а я ему ответил, что мы почти не видимся.
— А это очень мило с его стороны, что он спрашивает обо мне. Я его очень люблю, твоего барина-то. Он такой добрый и сердечный и к солдатам относится, как отец родной, — серьезно сказал Швейк.
Ну, брат, ты здорово ошибаешься! — возразил Кунерт. — Свинья он, вот что, и глуп, как пробка. Мне он уже надоел хуже горькой редьки, так он меня изводит.
— Да что ты? — удивился Швейк. — А я-то думал, что он и в самом деле такой хороший человек. Ты, однако, очень странно отзываешься о своем подпоручике, хотя, впрочем, у денщиков это с роду так ведется. Вот, например, денщик майора Венцеля отзывается о своем барине не иначе, как «сволочь, идиот поганый!», а денщик полковника Шредера, говоря о своем барине, называл его только «стервой» или «падалью ходячей». А происходит это оттого, что каждый денщик учится от своего же барина. Если бы барин нас не ругал, то и денщик не стал бы за ним повторять. В Будейовицах во время моей службы был у нас один подпоручик, Прохаска по фамилии, — тот много не ругался, а называл своего денщика только «благородной коровой». Другого ругательства его денщик, некий Гибман, от него не слышал. И так он к этим словам привык, что как ушел в запас, то стал называть и отца, и мать, и сестер «благородными коровами». А когда он обозвал так и свою невесту, та обиделась и подала на него в суд за оскорбление: ведь он обозвал так ее, ее отца и ее мать на одной вечеринке, при всем честном народе. И ни за что не хотела его простить, а на суде говорила, что если бы он обозвал ее «благородной коровой» с глазу на глаз, то она, может быть, и простила бы, а так — это скандал на всю Европу… А между нами говоря, Кунерт, этого я от твоего подпоручика никак не ожидал. На меня он уже тогда, когда я первый раз с ним беседовал, произвел такое симпатичное впечатление, словно колбаса, которую только что принесли из коптильни, а когда я поговорил с ним во второй и в третий раз, он показался мне таким начитанным и каким-то особенно душевным… Ты, собственно, откуда? Прямо из Будейовиц? Вот это я люблю, когда кто-нибудь «прямо» оттуда или оттуда... А где ты там живешь? Ага... Что ж, там летом великолепно… Семейный? Жена, говоришь, и трое детей? Эх, счастливец ты, товарищ. По крайней мере, есть кому по тебе поплакать, как говаривал в своих проповедях мой фельдкурат Кац, да это и в самом деле верно, потому что я слышал такую речь и в Бруке. Ее держал один полковник запасным, отправляющимся на сербский фронт; он говорил, что каждый солдат, который оставил дома семью и пал на поле брани, разрывает, правда, все семейные узы… то есть, разъяснял он. — «Когда он становится трупом, трупом для семьи, то семейные узы, конечно, порваны, но все же он — герой, потому что отдал свою жизнь за более обширную семью, за отечество!» А живешь ты, значит, в четвертом этаже? В мезонине?.. Так, так… Это ты верно говоришь, я теперь и сам вспомнил, что там нет четырехэтажных домов… Тебе уж пора? Ах, вот оно что: твой барин стоит возле штабного вагона и смотрит в нашу сторону. .. Ну, так имей в виду, что если он спросит, говорили ли мы с тобой и о нем, то скажи ему прямо, что я о нем, действительно, говорил, и не забудь передать ему, как хорошо я о нем отзывался, скажи ему, что я редко встречал офицера, который бы так ласково и по-отечески обращался с солдатами. И еще не забудь передать ему, что он показался мне очень начитанным, скажи ему, что он очень умный. И, наконец, скажи ему еще, что я тебя уговаривал вести себя как следует и исполнять все его малейшие желания... Ты не перепутаешь?
Швейк полез к себе в вагон, а Кунерт со своими нитками опять отправился в свою берлогу.
Через четверть часа поезд двинулся дальше в Новую Чабину, мимо сожженных деревень Брестова и Больших Радван. Видно было, что тут дело было уже не шуточное.
Косогоры и склоны Карпат были изрезаны окопами, тянувшимися от долины до долины вдоль железнодорожного полотна с новыми шпалами. По обеим сторонам пути зияли большие воронки от снарядов. Над протекавшей к Лаборчу речкой, извивам которой следовал железнодорожный путь, виднелись временные мосты и обуглившиеся устои прежних переправ.