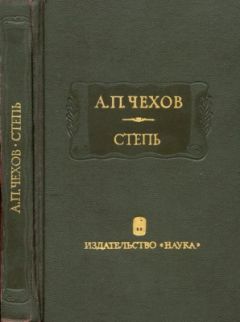Это был бы совсем другой роман, едва ли понятный Григоровичу, и в основе его конфликтов лежали бы мифы русской истории и русской совести, мифы роковой неоплатной вины. Вскоре Чехов напишет, объясняя характер Иванова: "… неопределенное чувство вины <…> чувство русское. Русский человек — умер ли у него кто-нибудь в доме, заболел ли, должен ли он кому-нибудь, или сам дает взаймы — всегда чувствует себя виноватым <…> К утомлению, скуке и чувству вины прибавьте еще одного врага. Это — одиночество…" (А.С. Суворину, 30 декабря 1888 г. — П., 3, 110-111).
Какие бы планы ни возникали у Чехова, пока он работал над "Степью" и думал о ее продолжении, написал он то, что хотел написать — повесть с открытым финалом, к которому трудно было что-либо добавить:
"Какова-то будет эта жизнь?"
7
В одном из писем Чехов заметил, что вторгается со своей степью во владения Гоголя: "В нашей литературе он степной царь" (П., 2, 190).
Первая страница "Степи" соотнесена с началом "Мертвых душ" столь откровенно, что о случайном совпадении не приходится и думать. Чехов, конечно, стремился подчеркнуть преемственность и традицию, как бы посвящая "Степь" памяти Гоголя. "В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки, отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки".63 "Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники".
Степная дорога — сюжет в полном смысле этого слова исторический, сюжет без начала и конца, с простором для "дорогих образов и картин", с остановками для подробного описания характеров, нравов и встречных лиц: "Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала!"64
Обращаясь к слову Гоголя или упоминая его имя в тексте, Чехов отмечал и связь, и контраст времен. "Гоголевский Петрушка давно уже читает", — скажет позднее герой "Дома с мезонином".
В "Степи" и связанных с нею рассказах появились новые характеры, а с ними — черты, звуки и образы новой жизни: грохот сорвавшейся в шахте бадьи, варламовские отары овец и на том горизонте, где у Гоголя "по небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью, наляпаны были широкие полосы из розового золота",65 — дым проходящего поезда.
Наконец, сама степь, дикая и свободная вольница — "куда оно все девалось? <…> тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева — туча-тучей <…> Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины <…> а новое не растет" ("Свирель", 1887. С., 6, 323-324).
Связь и контраст с Гоголем — а для Чехова он прежде всего мастер, поэт и стилист — ощущается в описаниях степного царства, монументально-живописного в "Тарасе Бульбе" и лирически-задумчивого в "Степи". Степные пейзажи Гоголя просторны и многокрасочны, степь у него — зелено-золотой океан, по которому брызнули миллионом соцветий; сами названия трав и цветов тщательно подобраны, ярко-декоративны: "Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный Бог весть откуда колос пшеницы наливался в гуще".66
Цветовая насыщенность гоголевского слова и его контрастность так сильны, что временами фраза производит впечатление вспышки: "Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу".67
У Чехова важнее звучание слова, его тональность и лад; в его описаниях несравненно меньше колоритных названий — "сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля, — все побуревшее от зноя…"; но тем больше в них олицетворений и звуков: "… это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая… убеждала кого-то, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой…"
Эта поэтическая стилистика, казавшаяся современникам столь необычной и новой, обращена к древним пластам художественного сознания; она пробуждает в памяти нечто бесконечно знакомое: "ничить трава жалощами, а древо с тугою к земле преклонилось…" ("Слово о полку Игореве").
Все, что у Гоголя дано живописно и в психологическом плане нейтрально, у Чехова олицетворено.
"Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха" ("Тарас Бульба").
"Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни…" ("Степь"). Коростель здесь "не понимает, в чем дело", встревоженные чибисы плачут и жалуются на судьбу — "для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, Бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы…"
Костер, порождавший в "Тарасе Бульбе" сложную игру багрянца и тьмы, в "Степи" становится почти живым существом: "от костра осталось… два маленьких красных глаза…"
Чехов сохранил лишь один из повествовательных приемов Гоголя — гиперболическую дальнозоркость, позволявшую раздвинуть пространство и отчетливо различать и описывать подробности, недоступные реальному зрению.
Так, в черной точке, мелькнувшей на горизонте "Тараса Бульбы", прорисовываются черты татарина: "маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои…".68 Так Егорушка в подобной же черной точке различает, как два перекати-поле "столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке".
Но и в данном случае у Гоголя получился портрет; у Чехова же — олицетворение и метафора, навеянная былинами и сказаниями, почти такими же древними, как сама степь.
Утверждая, что все большие повести Чехова "страдают отсутствием органической целостности и часто представляют лишь группу мелких рассказов", что в этом смысле Чехов "едва ли не конченый человек", один из критиков завершил свой отзыв строкой Белинского о Гоголе, припомнившейся как бы непроизвольно: "Черт вас побери, степи! Как вы хороши у Чехова".69
В "Степи" нет столь откровенных, как во многих других случаях, обращений к слову или имени Гоголя; ее стилистика скорее контрастирует, чем соотносится с эпическим и живописным стилем "Тараса Бульбы". Но начитанность и память, на которые и рассчитывал Чехов, безошибочно вели читателя к гоголевскому степному царству…
Лишь рецензенты, совершенно лишенные поэтического слуха и чутья, восприняли "Степь" как повесть этнографическую (позднее — даже и как краеведческую!).
"Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги… Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли.
Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно".
Вместо делового почтового тракта, по которому в начале повести выехала из города N. бричка, появилась метафора древнего пути из конца в конец степного пространства, созданного для громадных, широко шагающих людей, для былинных фигур: "И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали". Возник острый поэтический контраст, то основное для Чехова содержательное противоречие, которое будет развиваться в драматургии и прозе зрелых лет.
Сопоставление противоположностей, художественное противоречие и контраст — определяющая черта поэтики "Степи".
Вдоль сказочной степной дороги, на которой уместились бы шесть колесниц, какие Егорушка видел на страницах Священной истории, поставлены телеграфные столбы, "похожие на карандаши, воткнутые в землю".
Великое и малое контрастирует в образах персонажей повести: степь, олицетворяющая свободу и волю, очевидно, никому не может принадлежать, у нее нет и не должно быть хозяина. Между тем все, что лежит по эту сторону ее горизонта, и, как в свое время показывал Ноздрев, все, что находится по ту сторону, принадлежит Варламову, который оказывается не властелином, какие бывают в страшных сказках, а "малорослым серым человечком".
Фантастические, сказочные образы, богатыри, которые видятся герою в грозовую ночь, соотнесены с портретами возчиков и встречных: "… красные уши… торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте"; "Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары навыпуск, а обут в лапти".