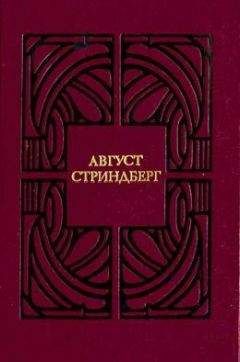– Не говори о нем худо! Во всем виновата я!
– А почему не он? Что, его личность священна?
Похоже, что да. И заметьте, стоило мне на него напасть, как она решительно вставала на защиту.
Уж не что-то ли вроде франкмасонства связывает ее с бароном? Либо в их интимной жизни были секреты, тайны, из-за которых она боится сделать этого человека своим врагом? Это так и осталось для меня неясным, как и ее непоколебимая верность своему прошлому с бароном, несмотря на все его дальнейшие предательства.
Солнце в конце концов все же село, и мы расстались. Я спал неспокойным сном голодного человека, и мне снилось, что я хочу улететь на небо, но не могу, потому что на шее у меня висит мельничный жернов.
События нарастали. Обратились к директору театра, чтобы получить разрешение на дебют для госпожи К., и он будто бы ответил, что театр не может иметь дело с женщиной, покинувшей свой семейный очаг.
Все рухнуло! Выходит, что после года, потраченного на подготовку дебюта, эту женщину без всяких средств к существованию попросту выбросят на улицу! И я, бедный как цыган, должен попытаться ее спасти.
Чтобы проверить, справедливо ли это ужасное известие, она отправилась с визитом к своей подруге, знаменитой драматической актрисе, с которой она прежде часто встречалась в свете и которая всячески заискивала перед белокурой баронессой, этим «маленьким эльфом».
Знаменитая актриса, погрязшая в расчетливом пороке при Живом муже, приняла честную грешницу самым оскорбительным образом и указала ей на дверь!
И это пришлось стерпеть!
Оставалось только одно – любой ценой взять реванш. – Что ж, стань писательницей! – говорил я ей. – Пиши пьесы и сделай так, чтобы их играли на этой самой сцене. Зачем опускаться, когда можно подняться! Брось эту комедиантку к своим ногам, одним рывком возвысившись над нею. Разоблачи это лживое, лицемерное, порочное общество, которое, открывая двери своих гостиных для шлюх, закрывает их для разведенной женщины! Вот прекрасная тема для пьесы.
Но Мария, увы, из числа тех бесхребетных, впечатлительных натур, у которых нет сил отражать удары…
– Никакой мести!
Трусливая и мстительная одновременно, она полагала, что месть – это дело бога, а всю ответственность взваливала на подставное лицо.
Но я не отступил, и тут мне пришел на помощь счастливый случай: один издатель предложил мне обработать тексты для детской книжки с картинками.
– Вот приведи в порядок эти тексты, – сказал я ей, – и ты тут же получишь сто франков.
Я принес ей кипу разных книг, чтобы у нее сложилось впечатление, что она в самом деле сделала эту работу, и она получила свои сто франков. Но какой ценой мне это далось! Издатель потребовал, чтобы на книжке с картинками стояло мое имя. И это после того, как я уже дебютировал в качестве драматурга. Литературная проституция! Какие сладостные минуты пережили мои литературные враги, которые поклялись, что я бездарность.
Вслед за этим я заставил ее написать корреспонденцию в утреннюю газету. Она с этим справилась весьма посредственно, однако письмо все же было напечатано, но газета отказалась платить гонорар. Я бегал по городу, чтобы достать луидор, и, не стыдясь святого обмана, вручил ей его «по поручению редакции»!
Бедная Мария, как она радовалась, отдавая эти жалкие заработанные гроши несчастной матери, у которой дела обстояли столь плачевно, что она была вынуждена не только сократить свои расходы, но и сдавать меблированные комнаты.
Старухи начали поглядывать на меня как на спасителя и, вытащив из ящика переводы пьес, уже отвергнутые всеми театрами, стали меня уверять, что я в состоянии изменить решение директоров. Так на меня свалилось столько невыполнимых поручений, что они отнимали все мое время, и мне уже грозила настоящая нищета. Итак, мои денежные дела окончательно запутались из-за потери времени и ежедневной неразумной траты нервов, так что в конце концов мне пришлось отказаться от обеда, и я вернулся к своей старой привычке ложиться спать не поужинав.
Тем временем Мария, ободренная своими материальными успехами, взялась за сочинение пятиактной пьесы. Мне казалось, что я передал ей все семена своих поэтических вдохновений и, пересаженные в эту нетронутую почву, они принялись, проросли, а я стал бесплодным, подобно цветку, который, разбрасывая свои семена, увядает. Я был на пороге смерти, выпотрошен, и мой мозг перестал работать, прилаживаясь к механизму мелкого женского мозга, устроенного совсем иначе, чем у мужчины. Я не могу в точности сказать, что именно заставило меня переоценить литературные способности этой дамы и направить ее по пути сочинительства, ведь кроме писем, иногда искренних, но часто вполне посредственных, я не читал ни строчки, написанной ее рукой. Она становилась чем-то вроде моей живой поэмы, я израсходовал на нее весь свой талант, а сам остался ни с чем. Ее личность срослась с моей, привилась к ней, как черенок к фруктовому дереву, и стала просто чем-то вроде моего нового органа. Отныне я существовал только через нее, я, так сказать, материнский корень этого растения, влачил свое жалкое подземное существование, питая стебель, поднимавшийся к солнцу, чтобы на нем расцвел прекрасный цветок, который будет меня восхищать своим великолепием, и при этом я забывал, что настанет день, когда черенок этот вдруг отделится от истощенного ствола и начнет кичиться позаимствованной у меня статью.
Как только она закончила первый акт пьесы, я прочел его и нашел превосходным, причем вовсе не в силу своего пристрастия. Я тут же выразил свое восхищение автору и горячо поздравил ее с таким успехом. Она сама была удивлена своим талантом, я ей рисовал блестящие перспективы ее писательской карьеры, но тут вдруг произошло некоторое изменение в наших планах. Мать Марии вспомнила про одну свою подругу, художницу, хозяйку великолепной помещичьей усадьбы, очень богатую женщину. Художница эта дружила, что было в данном случае самым важным, с ведущим актером королевского театра и с его женой, причем оба они были отъявленными врагами и соперниками той знаменитой актрисы, к которой ходила Мария.
По настоянию этой незамужней помещицы, взявшей на себя моральную ответственность за свою подопечную, актерская чета согласилась заняться подготовкой Марии к дебюту. А для начала Марию пригласили погостить две недели в этой усадьбе, где она и встретится с ведущим актером и его женой. И тут выяснилось, что они уже разговаривали с директором, который – о счастье – благоприятно отнесся к дебюту Марии, а дурные слухи, ввергшие нас в отчаяние, распространяла, оказывается, сама мать Марии в надежде отвадить дочь от сцены.
Итак, Мария была спасена. А я снова начал дышать, спать, работать. Она отсутствовала две недели и, судя по ее редким письмам, не скучала. Она подверглась там домашнему экзамену, друзья-артисты прослушали ее и сочли, что у нее есть данные для сцены.
Вернувшись из усадьбы, она сняла в деревне, под Стокгольмом, комнату у крестьянки, которая ее и кормила. Таким образом, она освободилась из под надзора старых дам и могла свободно, без свидетелей и ограничений, встречаться со мной по субботам и воскресеньям. Жизнь нам наконец улыбнулась, хотя раны, нанесенные, только что пережитым, еще не затянулись, но на лоне природы Меньше чувствуешь давление социальных условностей, и летом, под лучами солнца, мрак в душе быстрее рассеивается.
Наконец в начале осени было объявлено о дебюте Марии. Поскольку ее имя на афише было окружено именами двух самых знаменитых артистов, то все сплетни разом прекратились. Правда, роль знатной дамы в этой затасканной комедии мне решительно не нравилась. Однако новый наставник Марии твердо рассчитывал на то, что она вызовет симпатии публики, когда откажет в руке маркизу, вознамерившемуся украсить ею свой салон, предпочтя этому титулованному прощелыге бедного юношу, но с золотым сердцем.
Как только я был отстранен от должности, так сказать, театрального педагога, у меня сразу образовалось достаточно времени, чтобы заняться наукой, и я стал писать работу для какой-нибудь академии, дабы оправдать надежды, которые коллеги возлагали на меня как на эрудита библиотекаря и ученого. С необычайным рвением я углубился в этнографические исследования Дальнего Востока, и эти занятия были чем-то вроде опиума, успокаивающего мою бедную голову, истерзанную боями, которые мне пришлось вести все последнее время, злонамеренной клеветой и всяческими страданиями. Движимый честолюбивым желанием стать кем-то, чтобы соответствовать любимой женщине, которой, казалось, теперь уж наверняка уготована блестящая карьера, я проявлял чудеса усидчивости, с раннего утра до позднего вечера не выходил из библиотеки и был готов терпеть всяческие лишения, не обращая внимания ни на холодный сырой воздух подвалов Королевского дворца, ни на постоянное недоедание, ни на нехватку денег.