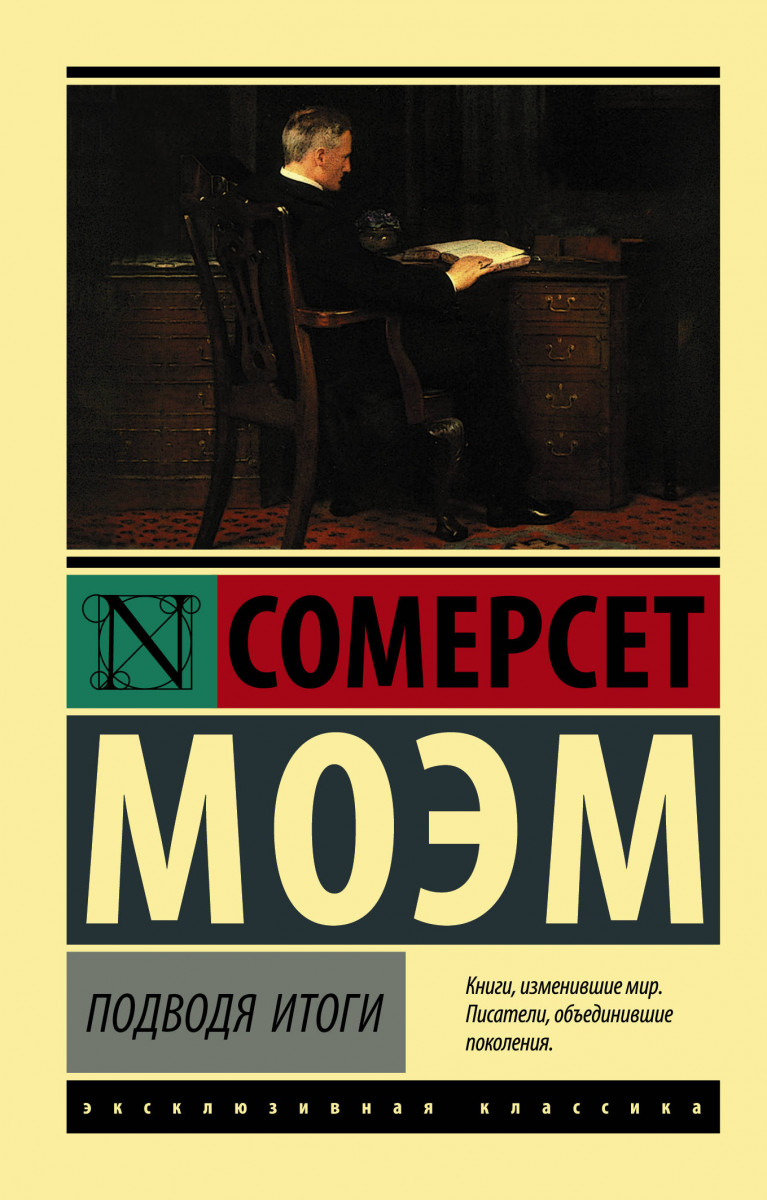в Германию вошли у Аахена. В день проходили миль десять-двенадцать, не больше. Приглянется какая-нибудь деревня — делаем остановку. Всегда находился трактир, где можно было переночевать, поесть и выпить пива. С погодой нам в общем везло. И замечательно было проводить все дни на воздухе после стольких месяцев в шахте. Я раньше, кажется, и не понимал, какая это радость для глаз — зеленый луг или дерево, когда листья на нем еще не распустились, но ветви словно окутаны легкой зеленой дымкой. Кости стал учить меня немецкому — сам он говорил на нем не хуже, чем по-французски. Он называл мне все, что встречалось нам на пути — корова, лошадь, человек, потом заставлял повторять за ним простые немецкие фразы. Так мы коротали время, а когда вступили в Германию, я уже мог хотя бы попросить, что мне нужно.
Кельн оказался в стороне от нашего маршрута, но Кости непременно пожелал туда завернуть, как он сказал — ради Одиннадцати Тысяч Дев, а когда мы туда пришли, он загулял. Я не видел его три дня, потом он явился в комнату, которую мы заняли в каком-то рабочем бараке, черный как туча. Под глазом фонарь, губа рассечена, смотреть страшно — это он где-то ввязался в драку. Целые сутки проспал, а потом мы двинулись вверх по долине Рейна на Дармштадт — он сказал, что там земли плодородные и скорее всего можно получить работу.
Чудесно там было. Погода держалась, мы прошли много городов и деревень. В которых было что поглядеть — останавливались и глядели. Ночевали где придется, раза два даже на сеновале. Ели в придорожных харчевнях и, когда добрались до виноградников, перешли с пива на вино. В харчевнях заводили дружбу с тамошними жителями. Кости напускал на себя грубовато-простецкую манеру, весьма располагающую, играл с ними в скат, это такая немецкая карточная игра, и обчищал их так добродушно, с такими солеными шуточками, что они отдавали ему свои пфенниги чуть ли не с радостью. А я практиковался на них в немецком. В Кельне я купил маленький англо-немецкий разговорник, и дело у меня шло на лад. А по вечерам, влив в себя литра два белого вина, Кости странным, замогильным голосом разглагольствовал о полете от Единого к Единому, о Темной Ночи Души и о конечном экстазе, в котором творение сливается воедино с предметом своего восхищения. Но если я пытался вытянуть из него еще что-нибудь рано утром, когда мы опять шагали среди смеющейся природы и роса еще сверкала на траве, он приходил в такую ярость, что готов был меня поколотить.
«Да ну тебя, идиот несчастный, — огрызался он. — На что тебе понадобился этот вздор? Учи-ка лучше немецкий».
Не очень-то поспоришь с человеком, если у него кулак как паровой молот и он не задумается пустить его в ход. Я видел его приступы бешенства. Я знал, что он способен избить меня до бесчувствия и бросить в канаве, да еще обшарить мои карманы, это тоже с него бы сталось. Он по-прежнему был для меня загадкой. Когда язык у него развязывался от спиртного и он заводил разговор о Неизреченном, он сбрасывал с себя привычное сквернословие, как тот грязный комбинезон, что носил в шахте, и выражался вполне литературно, даже красноречиво. И был, мне кажется, вполне искренен. Сам не знаю, как я к этому пришел, но однажды мне взбрело в голову, что тяжелая, изнурительная работа в шахте была ему нужна ради умерщвления плоти. Может, он ненавидит свое огромное нескладное тело и нарочно его мучает, а его шулерство, и цинизм, и жестокость — это бунт его воли против… как бы это сказать, против какого-то сокровенного инстинкта святости, против жажды Бога, которая и ужасает его, и владеет им неотступно.
А время-то шло, весна миновала, листва на деревьях стала густая и темная, в виноградниках наливались гроздья. Грунтовые проселочные дороги, по которым мы ходили, стали пыльными. До Дармштадта оставалось совсем немного, и Кости сказал, что пора нам подыскивать работу. Деньги у нас почти все вышли. У меня в бумажнике было несколько аккредитивов, но я решил, что без крайней нужды не буду их разменивать. И вот мы, как увидим ферму побогаче, стали заходить и спрашивать, не требуются ли работники. Вид наш, надо полагать, не внушал доверия. Мы были грязные, потные, все в пыли. Кости — тот выглядел прямо как разбойник с большой дороги, да и я, наверно, немногим лучше. Раз за разом мы уходили ни с чем. Один фермер сказал, что Кости он согласен взять, а я ему не нужен, но Кости заявил, что мы товарищи и без меня он не пойдет. Я пробовал его уговорить, но он ни в какую. Это меня удивило. Я знал, что чем-то пришелся ему по вкусу, вот только чем — не мог уразуметь, казалось бы, ему нужны были дружки совсем иного сорта. Но чтобы он настолько ко мне привязался, что из-за меня откажется от работы, — этого я не думал. Я даже почувствовал себя виноватым перед ним, потому что он-то мне, в сущности, не нравился, даже был противен, но, когда я промямлил что-то вроде благодарности, он разом меня оборвал.
В конце концов удача нам улыбнулась. Мы только что прошли одну деревню и, поднявшись в гору, набрели на ферму, она стояла на отшибе и вид имела вполне приличный. Постучались, двери отворила женщина. Мы, как всегда, предложили свои услуги. Сказали, что платы нам не надо, будем работать за харчи и ночлег, и она, как ни странно, не захлопнула перед нами дверь, а велела подождать. Она кликнула кого-то, и из дома вышел мужчина. Он нас как следует разглядел, спросил, откуда мы, потребовал документы. Узнав, что я американец, еще раз оглядел меня с головы до ног. Что-то ему не понравилось, но он все же пригласил нас зайти, выпить по стакану вина. Он провел нас в кухню, и мы уселись. Женщина принесла жбан и стаканы. Хозяин нам рассказал, что его батрака боднул бык, парень в больнице и всю страду не сможет работать. А с работниками нынче туго, столько мужчин убито на войне, другие уходят на фабрики, вон их сколько понастроили на Рейне. Это нам было известно, мы, собственно, на это и рассчитывали. Ну, короче говоря, он нас нанял. В доме места было сколько угодно, но наше соседство его, видно, не прельщало; как бы то ни было, он предупредил, что на сеновале