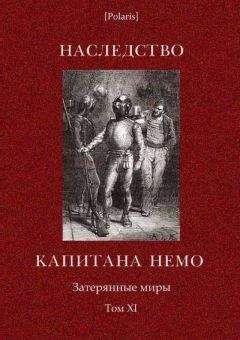Эльокум Пап повертел головой, оглядывая зал, и увидел всюду лежащие груды свернутых бумаг, пачки старинных книг, рассыпавшиеся обрывки священных свитков. С фотографий на стенах смотрели бледные лица со строгими глазами и черными бородами. Висели картины маслом, изображавшие по большей части кладбища: в гуще надгробий и могил, утопающих в зелени, он узнал на одной из картин Виленскую городскую синагогу с четырьмя толстыми колоннами вокруг бимы. Теперь столяр выговаривал горечь своего сердца перед заведующим музеем.
— Этот реб Тевеле Агрес, который был когда-то вашим меламедом в Ширвинте, уже заранее топит печи в Немом миньяне, еще до больших холодов. Натопленная печь привлекает побирушек, которые приходят погреться. Я своей резьбой по дереву состоятельных обывателей не привлек. А вот натопленная печка привлекает бездельников и попрошаек, всяких придурков и уродов. Каждый день приходит городской сумасшедший или полусумасшедший, и от его лохмотьев воняет все вокруг.
Учитель и заведующий музеем бросает на столяра перепуганный взгляд, нервно надевает пенсне и поднимает со стола к близоруким глазам раскрытую местечковую хронику, словно хочет выяснить, соблюдалось ли предписание платить налог на новую одежду меламедам для бедных детей или оно осталось только на бумаге, как утверждает этот циник Махтей. Элиогу-Алтер Клойнимус снова думает о том, о чем уже не раз думал: хотя он больше не верит в светскую еврейскую школу и в обещанное революционное счастье, он все-таки не может стать евреем из бейт-мидраша. Он не может произносить молитв, которые не переживает в своей душе, да и торг по поводу вызовов к Торе и знаков почета, каким он бывает в молельне даже на Новолетие и на Судный день, ему не по сердцу. Но еще больнее ему слушать о евреях, для которых бейт-мидраш — это печка, чтобы погреться, а не место для молитвы и изучения Божественной Торы. Его характер, несчастье его юности, не изменился и на старости лет — он остался романтиком.
С каждым днем ветер дул все холоднее, а снег шел все чаще, и все больше оборванных евреев приходило в Немой миньян погреться у печки. Когда такой гость входил и Эльокум Пап замечал его из угла, где занимался резьбой, он вставал и стоял, похожий на тощее огородное пугало, с которого ветер сорвал тряпки и которое больше не пугает слетевшихся черных птиц. Эльокум Пап узнавал в пришедших евреях с глиняными физиономиями и жидкими соломенными бородками городских водоносов. Один из них, низенький, подволакивал ногу и раскачивался при ходьбе, словно нес два полных ведра. Другой, с перекошенной физиономией и длиннющими ногами, ходил как на ходулях. Третий, с беззубым ртом, все время придурковато улыбался. Водоносы были обуты в большие тяжелые башмаки и подпоясаны веревками. Из их пальто торчали куски ватной подкладки, а за пазухой они носили все свое имущество: черствый хлеб, жестяные кружки для кипятка, грязные тряпки.
Заходили и чтецы псалмов, бороды которых свалялись в колтуны, а глаза свидетельствовали о постоянном недосыпании, вызванном тем, что они целыми ночами сидели рядом с покойниками. Они носили зимние шапки с опущенными ушами, похожими на большие уши лесных зверей. «Тут не хватает только могильщика», — пробормотал Эльокум Пап, и словно нечистая сила его подслушала: заявился могильщик с трясущейся от старости головой и дрожащими руками. Но хотя он больше не мог копать могил, он мог еще пить водку и балагурить. К собранию присоединился и лавочник-сиделец в плоской шапке с помятым козырьком. Стоя у печи, он беспрерывно смеялся и махал руками, чтобы показать, как у него радостно на душе, хотя все знали, что гуртовщики больше не доверяют ему ни гроша.
Подошли и такие евреи, в присутствии которых Эльокум Пап не усматривал оскорбления для миньяна, но тоже не из лучших. Какой-то маленький еврейчик в больших валенках, с маленькой бородкой и добренькими глазками, останавливался у каждого пюпитра, за которым изучающий Тору раскачивался над священной книгой, и задавал один и тот же вопрос:
— Доброе утро вам, ребе. Я не хочу вас отрывать от изучения Торы. Я бы хотел только узнать закон: годовщина смерти считается по дню кончины или по дню погребения?
Другой еврей, высокий, со светлым лицом и серебристой бородой, страшно стучал башмаками. Он ходил по молельне от пюпитра к пюпитру и искал свои очки, которые задвинул высоко на лоб. Когда-то этот обыватель крутил большие дела, курил сигары и давал самые щедрые пожертвования. Однако в последнее время он выжил из ума, и дети не раз приходили искать его на Синагогальном дворе, потому что он забывал дорогу домой и мог заблудиться.
— Добро пожаловать! Только его здесь не хватало! — проворчал Эльокум Пап, увидев входящего еврея лет за пятьдесят, с наглыми глазами потрепанного бонвивана. Еврей это звался Зуська, а прозвище его было «Император канторов, Сирота[104] Второй». Прежде он сиживал в других синагогах и рассказывал изучавшим там Тору, что он был в Лондоне кантором в самой большой синагоге. Внезапно он потерял голос и потому вернулся домой. И пусть не жалуются на него те тысячи евреев, которые его знали и слушали. Но Эльокум Пап слышал, как говорили, что эта знаменитость была за границей певцом в забегаловке, шутом и картежником. Ему взбрело в голову съездить в Польшу, а теперь его не впускают назад, потому что у него нет тамошнего паспорта. Он рассказывает, что живет за счет своих капиталов, лежащих в заморских банках. Но Эльокум Пап слыхал, что и это вранье. Этого Зуську материально поддерживает родственница, засидевшаяся в девицах. Да Эльокум Пап и сам однажды подглядел, как этот якобы всемирно известный кантор глотал из бумажного кулька сахарное печенье с замороженной сметаной сверху, омен-таши[105] и куски халвы. Собравшимся вокруг печки он не дал ни кусочка, даже, как сказано, размером с оливку. Кто-то из этой банды нашептал столяру, что Зуська тратит на сладости все деньги, которые посылает ему родственница, а потом ходит голодный. «Так значит, для него и для других побирушек я разукрасил священный ковчег резьбой?» — спросил себя столяр.
Вержбеловский аскет, реб Довид-Арон дожил-таки до сладкой мести. Его лицо даже сморщилось и покрылось множеством морщинок от скрытого злорадства, хотя говорил он деликатно:
— Я же просил у вас, реб Эльокум, милосердия, чтобы вы не ремонтировали и не украшали Немой миньян. Тогда бы сюда не совались все эти неучи с улицы и с Синагогального двора.
Но резчик вылупил на него пару злых глазищ и пробурчал:
— Блюдолиз! Вы мне тоже приелись, как горькая луковица.
Эльокум Пап направился за биму и подумал, что если у восточной стены и вокруг священного ковчега с резьбой еще полдень, то у западной стены и у печки уже полночь, такой мрак несет с собой эта компания побирушек. Когда Эльокум Пап подошел, Зуська был посреди рассказа о своих свершениях в Нью-Йорке, где он пел в опере.
— Минуту назад вы сказали, что в Америке вы были императором канторов, вторым после Сироты. Теперь вы рассказываете сказки о том, как пели в опере, — прервал его могильщик, у которого тряслась голова и подрагивали руки.
— Вот вы и похоронных дел мастер, и помощник синагогального служки, а на праздник Кущей вы еще носите по синагоге цитрон и лулав[106] для благословления. Но женщины больше не хотят их брать из ваших рук, потому что вы возитесь с мертвецами. А вот в Америке любят, чтобы кантор еще и пел в опере, — ответил Зуська, и собравшиеся вокруг печки развеселились, начали смеяться и пихать друг друга локтями.
Столяру показалось, что печка падает на него. Бейт-мидраш крутился у него перед глазами. Он принялся ругаться и проклинать:
— Злой год на вас всех! Тут вам не шинок и не ночлежка, тут святое место. Посмотрите, сколько снега и грязи вы нанесли. Вы же весь пол загадили! — Эльокум Пап бил себя кулаком в грудь. — Я здесь хозяин! Я здесь староста! Я отремонтировал и украсил Немой миньян. Прочь отсюда, голодранцы!
На минуту нищие растерялись и замолчали. Но вскоре пришли в себя, и каждый принялся оправдываться: даже в синагоге Виленского Гаона и в Старой синагоге греются у печки. Так почему же этого не должно быть в Немом миньяне? Бейт-мидраш — это не Содом, куда чужакам входа не было. Пусть столяр-недотепа снимет со священного ковчега своих деревянных зверюшек и продаст их в магазины, торгующие детскими игрушками. Жаль дерева, которое он переводит, строгая свои цацки. В печи от этого дерева было бы больше пользы. Он староста? Нет, он собака! И лавочник-сиделец рассмеялся ему в лицо:
— Я имел дело и с большими командирами. Ты кто такой, маршал Юзеф Пилсудский?
— Со мной ты не повоюешь, — крикнул ему могильщик. — Я людей получше тебя хоронил, и назад они не выкарабкивались.