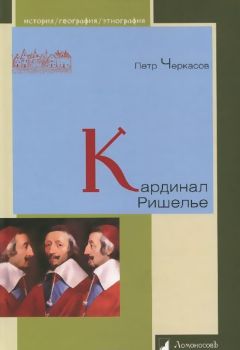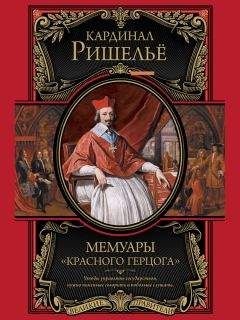Наконец стало светлее, и он с облегчением увидел перед собой уходящую вдаль голую равнину. Он прибавил шагу и вышел на опушку, где в солнечных лучах вытягивались на снегу плотные тени елей. Здесь он остановился, прислушался и, вновь объятый тревогой, долго глядел по сторонам. Теперь он уже боялся встречи не с неведомыми существами, а с человеком.
Здесь сама бескрайность простора порождала тоску. Всюду, насколько хватал глаз, – ослепительная белизна, которая вздымалась волнами, едва намеченными где более ярким блеском, где голубоватой складкой. Глаз быстро уставал вглядываться в сверкающие дали, – все приходило в движение, расплывалось, принимало бесконечно меняющиеся формы. И, однако же, равнина эта была не менее пустынной, чем Валь-де-Мьеж.
Матье сошел с дороги и двинулся напрямик, через вздымавшиеся сугробами поля, где он проваливался иногда почти по пояс. Так все утро он с трудом продвигался вперед. И лишь когда он пересек дорогу, ведущую из Левье в Мутен, ему встретились первые признаки жизни. Лошади спустились здесь в долину, верно, меньше часа назад, потому что навоз, который Матье пошевелил рукой, в середке был еще влажный и теплый; возница попытался было подсчитать лошадей, но это оказалось невозможно. Должно быть, их было с полсотни, а то и больше. Внимательно осмотрев четкие следы на обочине, возница заключил, что форма подков отличается от той, какая принята в Конте или во Франции.
– Кто же это может быть? – прошептал он. – Шведы? Или немцы? Или еще кто, совсем издалече? Так ли сяк, а лучше уходить с дорог да с открытых мест.
Матье выпрямился, огляделся и решил срезать напрямик к лесу Комбель и, спускаясь к Дурнону, идти по возможности лесом. Правда, так он даст большой крюк, но зато сможет перейти большак возле Рюбале, – там, где лес вплотную подступает к дороге с обеих сторон.
– Вот бывает и кстати, когда нет упряжки, – усмехнувшись, заметил он вслух. – С лошадьми да с повозкой прямиком не пройдешь.
Теперь лес уже не пугал Матье. Следы, свидетельствовавшие о недавнем присутствии здесь людей, вселяли куда больший страх, чем неведомые существа, мысли о которых на какой-то миг завладели было им.
Когда солнце показывало полдень, возница выбрал на опушке место, откуда хорошо видны были окрестные поля. Усевшись в тени большой ели на пенек, он спокойно мог оглядеть все кругом. Он открыл сумку, достал оттуда хлеб, сало и вино, которыми снабдил его Безансон. На самом дне он обнаружил небольшую флягу, вытянул пробку и понюхал. Фруктовая настойка, и, судя по запаху, очень крепкая. От одного взгляда на нее Матье сделалось теплее. Дружба Безансона пришла с ним и сюда, чтобы придать ему силы и обогреть.
«Да, с ним-то уж мы непременно свидимся. Он сам сказал. Не все же время войне быть, а там он и вернется. И проедет через Сален, чтоб со мной встретиться».
Эта лучащаяся надеждой мысль долгое время не покидала Матье.
Во второй половине дня он поздравил себя с тем, что, сделав крюк, прошел лесом: на дороге, что ведет в Понтарлье, виднелось множество следов лошадей и повозок. Матье прекрасно знал, сколь ничтожным стало движение на дорогах в эти неспокойные времена, и сразу понял, что рано еще говорить о конце военных действий. Прежде чем переходить дорогу, он прислушался. Тишина. Даже вьюга наконец смолкла. Потеплело, и небо на западе затянулось тучами.
«А ежели опять тепло станет, чума снова силу не наберет?»
Сначала ему сделалось страшно, но потом, когда он подумал, что отец Буасси уже не упрекнет его тогда в том, что он возвращается к концу эпидемии, его охватила глухая радость. К тому же слой снега здесь был куда тоньше, а мороз наверняка слабее, чем в лесу Валь-де-Мьежа. Где-то на склонах, тут и там, слышалось многоголосое журчанье родников, рожденных первым таянием и прокладывавших свои тайные тропки под слоем рыхлого снега.
Матье оставил Дурнон справа и направился на закат, обходя стороною Клюси. Дорогу он снова перешел там, где прятался в тот первый день, выжидая, пока проедут фургоны. Он остановился. Что-то сжалось внутри него. На дороге не было никаких следов, и все же ему показалось, что перед ним катит упряжка. Он явственно услышал стук копыт, крики возницы, громыханье железных ободьев, скрип колес. И опять услышал кашель бедняги Жоаннеса. А потом все исчезло, – остались лишь добрые глаза Мари.
Неужели она и вправду хотела, чтобы он вернулся в обитель чумы? Не ее ли взгляд, в конечном счете, заставил его вернуться в бараки? Не имела ли эта незнакомка большей власти над ним, чем иезуит, хотя Матье и словом с ней не перемолвился?
День шел на убыль. Солнце докатилось до сероватой, с отороченными золотом краями, пелены туч, наплывавшей с запада. Ни шороха ветерка, ни птичьего чириканья не слышалось в густой тишине, которую нарушала лишь песня ручейков под снегом.
Недалеко от Версани Матье пересек рощицу, и когда он вышел из нее на дорогу, ведущую к баракам, солнце совсем уже скрылось. Рыжеватый свет еще заливал чистую часть неба и, отраженный, вытягивал на снегу лиловые светящиеся тени скал и деревьев. И Матье, глядя на небо, вспомнил большие горные озера в каменистых, поросших лесом берегах. Но те озера остались далеко позади, наверняка они уже скованы льдом и лежат белые, словно голые равнины.
Ночь длинными, неслышными шагами кралась за Матье. Она настигла его, когда возница добрался до луга, где он копал могилы и где из тумана вынырнули две сбившиеся с пути повозки. Работу его кто-то продолжил. Снег был перемешан с землей, и два бугра рыхлой земли указывали место совсем свежих могил. Черные следы лошадиных копыт и повозки шли с луга – словно ведя возницу в бараки.
С тяжелым сердцем, задыхаясь, пошел Матье по нечеткому следу лошадиных копыт, обрамленному более ясными линиями, оставленными колесами. С первыми проблесками дня Матье отвернулся от совсем еще свежих следов саней, что уносили живых к жизни – туда, к горам, где нарождаются зори. Весь день Матье шел вслед за солнцем. И вот теперь, когда сгустились сумерки, он вновь увидел следы повозки, но повозки мертвецов, и следы эти приведут его в селение умирающих.
Далеко впереди, на затопленной тьмою земле, вдруг расцвели четыре золотистых цветка величиной со шляпку гвоздя, четыре неподвижных искорки, упавших до наступления ночи, чтобы известить Матье о том, что кто-то из живых еще ждет его в бараках.
В спокойствии сумерек чума заявляла о себе еще издали, и Матье Гийон, заслышав знакомые звуки, сбавил шаг. Значит, хоть живые и остались еще на Белине, смерть продолжает творить там свое дело.
Дорога чернела среди заснеженных откосов. Грязь, вперемежку с пластинами льда, делала ее скользкой. Матье был еще в тридцати шагах от первого строения, когда справа послышалось лошадиное ржание и стук копыт. Инстинктивно он весь напрягся, крепко сжав пику, но тут же понял, что это лошади в загоне почуяли его. И заржали в знак дружеского приветствия.
– Узнали меня, – протянул возница. – Вечер добрый! Вот радость-то… Ах вы мошенники, издалека меня учуяли, не ошиблись.
И он радостно направился к загородке, на лошадиный зов. Встреча с животными уняла тоску, и привет их показался ему добрым предзнаменованием. Он гладил теплые морды, ноздри, обдававшие его горячим, обжигающим дыханием. И тихо говорил с ними, счастливый от того, что вновь произносит слова, которые сопровождали его всю трудовую жизнь. Потом он вытащил из сумки оставшийся хлеб, разделил его и, протягивая лошадям, пояснил:
– Малость задубел, в такой-то мороз… Это лепешки. Совсем тонкие. Их испекли в глиняной печи, которую старики сложили там, в лесу, наверху… А вам и невдомек, где это находится, – Валь-де-Мьеж. Перед тем, как сюда подняться, небось никогда из долины-то не выходили.
Сзади него отворилась дверь. Матье обернулся. Прямоугольник тусклого света упал на землю, где мешались грязь и полурастаявший снег. На пороге возник силуэт стражника.
– Кто там ходит?
– Гийон, возчик… Это я, не стреляй!
– Тысяча и тысяча чертей, – громыхнул стражник, – проиграл я… Проиграл четыре бутылки! Вот подлость! Да, нельзя держать пари с кюре. Я побился с ним об заклад, что ты в кантон Во смылся и не видать нам тебя, как своих ушей.
Матье вошел в барак, а стражник хлопнул его по плечу и оглушительно расхохотался.
– Тысяча чертей, – вопил он, – хоть и проиграл, а платить-то мне не придется. Я ж с иезуитом бился об заклад, а ему, почитай, крышка. Я ему не заплачу, но и сам не выпью того, что он поставил бы мне, если б я выиграл… Небось сговорились, черт вас дери! Ты ему сказал, что вернешься. Признавайся, негодяй! Небось помогли друг дружке обвести меня вокруг пальца, а?
Он наступал, подняв мушкет, глаза его сверкали недобрым огнем. Он был пьян, и Матье уже хотел было привести его в чувство, как вдруг он сам отложил оружие, пожал плечами и, отвернувшись, буркнул: