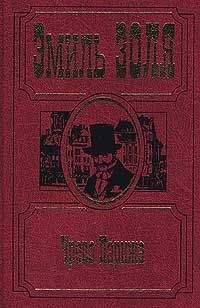Дождливые утра наводили тоску на Флорана. Он вспоминал о г-же Франсуа. Он убегал с рынка, чтобы немного поболтать с ней. Но он никогда не заставал ее в унынии. Она встряхивалась, как мокрый пудель, говорила, что ей не привыкать стать, она ведь не сахарная, не растает от первых капелек дождя. Флоран заставлял ее войти на несколько минут в галерею; не раз он водил ее даже к Лебигру, где они вместе пили горячее вино. И пока перед ним было ее спокойное лицо, ее ласковые глаза, он чувствовал себя счастливым, вдыхая принесенное ею сюда, в смрад рынка, чистое благоухание полей. От нее пахло землей, сеном, вольным воздухом, вольным небом.
— Надо бы вам, дружок мой, собраться в Нантер, — говорила она. — Посмотрите на мой огород, я все грядки кругом засадила тимьяном… а тут, в вашем поганом Париже, вонь невозможная.
И она опять уходила, хотя с одежды ее капала вода. Флоран, расставаясь с ней, чувствовал себя обновленным. Он тоже попробовал работать, чтобы победить терзавшие его приступы подавленности. Методичность, свойственная Флорану, подчас побуждавшая его педантично распределять свое время, доходила до мании. Дважды в неделю, по вечерам, он запирался у себя дома, задумав написать большой труд о Кайенне. Его комната, где он живет на всем готовом, думалось Флорану, как нельзя лучше успокаивает и располагает к работе. Он разводил огонь в камине, проверял, хорошо ли живется гранатовому деревцу в ногах у его кровати, затем пододвигал столик и засиживался за работой до полуночи. Молитвенник и «Толкователь снов» Флоран засунул поглубже в ящик стола, который мало-помалу заполнился заметками, исписанными листками, всякого рода рукописями. Труд о Кайенне почти не подвигался, его прервали другие проекты, замыслы гигантских работ, краткий план которых Флоран излагал в нескольких строчках. Он набросал вчерне, один за другим, проекты полной реформы административной системы Центрального рынка, замены пошлин, взимаемых со съестных припасов, налогом на заключаемые торговые сделки, проект нового порядка распределения продовольствия в бедных кварталах — словом, проект гуманного закона, пока еще совсем не разработанного, на основании которого прибывающий товар сдавался бы на общие склады и был бы обеспечен минимум продовольствия для каждой семьи в Париже. Ночами в тиши мансарды возникала огромная тень Флорана, который, согнувшись над бумагами, уходил с головой в свою серьезную работу. И порой зяблик, которого Флоран как-то в метель подобрал на рынке, принимался по ошибке щебетать, завидев свет и нарушая тишину, прерываемую лишь скрипом бегающего по бумаге пера.
Флоран неизбежно вернулся к политике. Он столько выстрадал из-за нее, что она не могла не сделаться самым дорогим для него делом жизни. Если бы не воздействие среды, в которую он попал, и не сложившиеся обстоятельства, он стал бы хорошим провинциальным учителем, наслаждался бы мирным существованием в своем маленьком городке. Но с ним обращались, как с волком, и теперь он чувствовал себя так, словно сама ссылка предназначила его для участия в борьбе. Его нервное беспокойство означало не что иное, как возврат к кайеннским раздумьям, к горечи, вызванной незаслуженными страданиями, воспоминанием о своей клятве отомстить когда-нибудь за человечество, воспитуемое кнутом, отомстить за попранную справедливость. Рынок-великан, изобилие и мощь жратвы ускорили этот перелом во Флоране. Рынок казался ему довольным и наевшимся зверем, толстопузым Парижем, нагуливающим жир, — скрытой опорой Империи. Рынок выставлял вокруг него огромные груди, чудовищные бедра, круглые рожи, как вечный аргумент против его худобы мученика и желтого лица неблагонамеренного гражданина. Перед ним было пузо лавочника, пузо среднего порядочного человека, надувшееся, жизнерадостное, лоснящееся на солнце и полагающее, что все идет как нельзя лучше, ибо никогда еще мирные люди не жирели так безмятежно. Тогда он почувствовал, что у него сжимаются кулаки, что он готов к борьбе, что сейчас воспоминание о ссылке возмущает его больше, чем при возвращении во Францию. Ненависть снова захватила его целиком. Подчас перо выпадало из его рук, он мечтал. Тлеющий огонь в камине бросал на его лицо огненные отблески; лампа коптила, а зяблик, спрятав голову под крыло, засыпал, поджав одну лапку.
Иной раз в одиннадцать часов Огюст, увидев под дверью Флорана полосу света, стучался к нему перед сном. Флоран впускал его к себе не без раздражения. Колбасник усаживался и сидел у камина, почти не разговаривая и никогда не объясняя, почему он приходит. Огюст не отрываясь смотрел на фотографию, запечатлевшую его вдвоем с Огюстиной в праздничной одежде, рука в руке. Под конец Флорана осенило: вероятно, Огюста потому так тянуло в эту комнату, что в ней прежде жила Огюстина. И как-то вечером он, улыбаясь, спросил, верна ли его догадка.
— Может статься, — ответил Огюст, очень удивленный неожиданным для него самого открытием. — Я никогда об этом не думал. Я заходил к вам просто так… Ну и ну! Вот бы смеялась Огюстина, если б я ей об этом рассказал… Когда собираешься жениться, о глупостях вроде бы не думаешь.
Словоохотливость он проявлял неизменно, едва заговаривал о колбасной, которую они с Огюстиной задумали открыть в Плезансе. Он, видимо, был твердо уверен, что построит свою жизнь, как ему хочется; поэтому Флоран в конце концов проникся к Огюсту своего рода уважением, смешанным с неприязнью. Так или иначе, в этом парне была недюжинная сила, как ни глуп он казался; он идет к своей цели напрямик и достигнет ее без всяких треволнений, наслаждаясь полным благополучием. В такие вечера, после посещения Огюста, у Флорана не ладилась работа, он ложился спать недовольный; душевное равновесие возвращалось, лишь когда он напоминал себе: «Да ведь Огюст просто животное!»
Каждый месяц Флоран ездил в Шамар навестить Верлака, это было для него почти радостью. Бедняга Верлак все еще влачил свои дни, к большому удивлению Гавара, предсказывавшего его конец не позднее чем через полгода. При каждом посещении Флорана больной говорил, что ему лучше, что ему очень хочется снова приняться за работу. Но время шло, и болезнь брала свое. Флоран садился у постели Верлака, занимал его рассказами о рыбном павильоне, стараясь хоть немного его развеселить. Он каждый раз оставлял на ночном столике пятьдесят франков Верлаку, номинально еще числившемуся инспектором; а Верлак, хотя Флоран с ним об этом условился, всякий раз сердился и отказывался от денег. Затем речь заходила о чем-нибудь другом, и деньги оставались лежать на столике. Когда Флоран уходил, г-жа Верлак провожала его до выходной двери. Была она маленькая, вялая, плаксивая. Она толковала только о расходах, связанных с болезнью мужа, о бульоне из цыпленка, кровавых бифштексах, бутылках бордо, аптекаре и враче. Эти жалостные разговоры очень смущали Флорана. Сначала он ее не понимал. Но бедная женщина беспрерывно плакала, вспоминая былую счастливую жизнь на инспекторское жалованье в тысячу восемьсот франков, и Флоран стыдливо предложил ей прибавку — потихоньку от мужа. Она отказалась и тут же без всякого перехода заверила, что пятидесяти франков ей вполне хватит. Однако до конца месяца она часто обращалась с письмами к тому, кого величала спасителем их семьи. Писала г-жа Верлак тонким, убористым почерком с наклоном направо, а круглые, подобострастные фразы, которыми она заполняла ровно три страницы, служили для того, чтобы выпросить еще десять франков; в результате сто пятьдесят франков жалованья Флорана полностью переходили к чете Верлаков. Муж об этом, разумеется, не знал, а жена буквально целовала Флорану руки. Ему это доброе дело доставляло огромное наслаждение; он скрывал его, как некую запретную радость, которую эгоистически вкушает один.
— Ну, знаете, этот жулик Верлак над вами просто смеется, — подчас говорил Гавар. — Живет теперь припеваючи у вас на содержании!
Кончилось тем, что Флоран однажды ответил:
— Все улажено; я даю ему только двадцать пять франков.
Правда, Флоран ни в чем не нуждался. Кеню по-прежнему предоставляли ему и стол и кров. Нескольких франков, которые оставались у Флорана, хватало, чтобы выпить стаканчик вина вечером у Лебигра. Постепенно его жизнь стала размеренной, как часы: он работал у себя в комнате; продолжал заниматься с Мюшем дважды в неделю, с восьми до девяти; один вечер уделял красавице Лизе, чтобы ее не обидеть; остальное же время проводил в отдельном кабинете Лебигра, в обществе Гавара и его друзей.
У Меюденов он появлялся в облике снисходительного, но несколько сурового педагога. Ему нравился этот старый дом. Внизу ему нужно было миновать лавку вареных овощей с ее неаппетитными запахами; в глубине маленького дворика остывали лохани с пюре из шпината, глиняные миски с тертым щавелем. Затем Флоран поднимался по скользкой от сырости винтовой лестнице, осевшие и трухлявые ступеньки которой совсем покосились, — ходить по ним надо было с осторожностью. Меюдены занимали весь третий этаж. Даже когда в семье появился достаток, мать наотрез отказалась переехать, несмотря на мольбы обеих дочерей, мечтавших жить в новом доме на широкой улице. Старуха упрямилась, говорила, что как тут жила, так тут и помрет. Правда, она довольствовалась темной каморкой, уступив хорошие комнаты Клер и Нормандке. А Нормандка воспользовалась правом старшей и захватила комнату, выходившую окнами на улицу; это была самая большая и лучшая комната. Обидевшись на сестру, Клер отказалась от смежной комнаты, окнами во двор; она предпочла ночевать по другую сторону лестничной площадки, в комнатушке, которую даже не побелила. Клер имела собственный ключ и жила независимо; при малейшем столкновении с домашними она запиралась у себя.