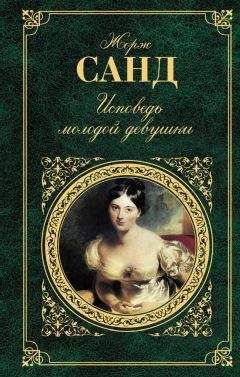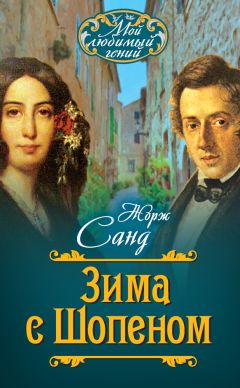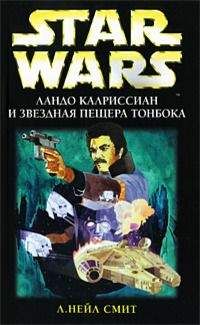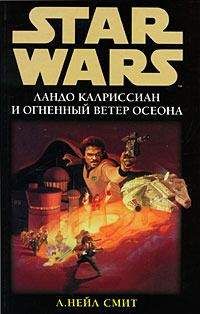— Ничего не поделаешь, дитя мое.
Я заметила, что лицо ее помрачнело, такой я ее еще никогда не видела. Вся в слезах я бросилась в ее объятия.
— Ты пугаешь меня, — сказала я, — мне кажется, что ты все еще несчастна.
— Здесь? С вами? — возразила она с улыбкой. — О нет, это невозможно. Если я была несчастна на этом свете, то не по своей вине, поэтому, как вы видите, я совершенно спокойна.
— Ты говоришь, как Фрюманс, но только спокойнее. Он прекрасно сказал, что спокойная совесть вознаграждает за все, но при этом глаза его блестели, и ясно было, что он любит тебя превыше всех на свете.
— Так, значит, вы говорили обо мне с Фрюмансом! Ну и озорница! Вы смело делаете все, что вам угодно!
— Ты считаешь это преступлением?
— Нет, вы такая, потому что вы хорошая, и еще потому, что вы думаете о нас обоих. А вот этого бы мне и не хотелось: можно себе представить, что думают о себе, когда думают только о вас.
— А почему бы тебе самой не подумать о себе?
— Деточка моя дорогая, — сказала Женни серьезно и твердо, — я никогда не стремилась выйти замуж вторично. Ваша бабушка, существо ангельской доброты, вообразила себе, что мне нужна еще и другая привязанность, кроме ее и вашей. Фрюманс пришел к этому же убеждению, потому что так говорила бабушка. Но сейчас Фрюманс прекрасно понимает, что я прежде всего мать, что вы мой единственный ребенок и что я не из таких женщин, которые беспокоятся о своем будущем: что будет, то будет. Я позабочусь о своем будущем, когда устроится ваше. Ваш муж, быть может, не оценит меня так, как вы… и тогда… тогда посмотрим!
— Стало быть, твоя любовь к славному Фрюмансу зависит от твоей воли? Ты достаточно сильна, чтобы сказать себе: «Я могла бы его полюбить, но не захотела», или даже: «Я полюблю его в тот день, когда мне заблагорассудится полюбить!»
— Вы смеетесь, насмешница? — промолвила Женни, не теряя спокойствия. — Ну да, я именно такая. Я прошла школу, которой вам, слава богу, никогда не доведется пройти, и там я обрела силу воли в такой степени, в какой Фрюманс сумел набраться из своих книг. Наступит время, когда я вам поведаю все это, но пока еще не могу.
— Но скажи мне хоть одно, Женни! Ты сама-то веришь в Бога?
— О да, конечно. Те, кто много страдал, не могут иначе.
— А ты знаешь, что Фрюманс не верит?
— Знаю, это его основная мысль.
— И тебя не волнует, когда ты говоришь себе, что, может быть, станешь его женой?
— Прежде всего часто я себе этого не повторяю. Бесполезно думать о том, чего нельзя ни приблизить, ни отдалить. Надо принимать время таким, какое оно есть в своем движении. А затем, если мне когда-нибудь придется жить с человеком, который сомневается в существовании Бога, мне представляется, что я его переделаю.
— А если тебе это не удастся?
— Ну, я как-нибудь утешусь. Я скажу себе, что он будет видеть более ясно в лучшей жизни и что Бог сочтет, что там он достоин узреть больше света, чем в этом мире. Ну, хватит, Люсьена, уже одиннадцать часов. Спокойной ночи, и пусть моя судьба вас не тревожит. Не надо было мне жаловаться, раз вы меня так любите.
Она поцеловала меня в лоб и удалилась в свою комнату, такая же спокойная, как и в другие вечера.
Исповедь Фрюманса приоткрыла мне дверь к идеалу, протест Женни вновь закрыл ее. В течение некоторого времени на небесах грядущего я видела лишь непроницаемое облако. Сильная душа Фрюманса грезила о любви и возвышала ее. Большая душа Женни старалась отдалить ее, даже не мечтая о ней. Значит, этот тиран людских сердец был весьма добродушен, и его легко было держать в узде любому, кто обладал острым умом, а я имела основания считать себя отнюдь не ниже других.
Именно тогда, беседуя в свободное время о Фрюмансе, о Женни и даже о полоумной Галатее, мы с Мариусом как-то незаметно стали иногда переводить разговор на самих себя. Во мне возникла необъяснимая досада на судьбу, и Мариус с удивлением обнаружил в моем сердце какие-то бездны печали и разочарования. Он не воспользовался этим с заранее обдуманным намерением, а извлек из этого некую пользу для себя, как, впрочем, обычно из всего того, что падало ему прямо в руки с неба.
— Ты совершенный ребенок, — сказал он, — если ты так занята своим будущим. Оно у тебя настолько простое, что тебе остается только принять его. Ты знатного происхождения, получила прекрасное воспитание, и независимо от того, есть или нет у твоего отца большое состояние и другие дети, твоя бабушка, как мне известно, устроила все так, что ты являешься ее единственной наследницей. Это дает тебе примерно двенадцать тысяч ливров ренты, то есть тысячу франков в месяц — в провинции это просто великолепно!
— Но меня не интересуют деньги, Мариус, я ведь о них никогда не думала.
— Напрасно. Прежде всего надо знать, чем ты можешь стать в жизни. Ты выгодная партия и должна понимать, что это создает тебе в обществе независимость.
— Ну, предположим. Но что мне делать с этой независимостью?
— То же, что и все женщины, — выйти замуж.
— То есть постараться поскорее освободиться от этой драгоценной независимости?
— У тебя ложное представление о браке. Брак — это ярмо только для несчастных и мелких людишек. Люди благовоспитанные и не думают о том, чтобы угнетать друг друга.
— Кто же им мешает?
— Нечто весьма могущественное и властвующее над миром: умение жить.
— И все?
— Да, все, но в этом все и заключается. Ты, может быть, веришь в религию, в добродетель, в любовь?
— Допустим, а ты?
— Я тоже верю в это, но лишь постольку, поскольку они являются частью того главного, что я называю умением жить, то есть уважением к себе и боязнью мнения света.
— Это мне кажется слишком холодным, Мариус!
— Дорогая моя, только холод сохраняет, а от тепла все портится.
— Значит, я должна начать с того, чтобы найти себе мужа в мире, где царит умение жить?
— Да, в мире, к которому ты принадлежишь и с которым не можешь расторгнуть связи, не уронив самым позорным образом своей репутации.
— Однако за пределами этого мира существуют же великие умы и характеры?
— Берегись всего того, что является великим. Море огромно, но оно — источник ураганов. Если ты стремишься к героической и трудной судьбе, то не проси у меня совета: я не любитель сложного и сверхъестественного. Я полагаю счастье в благоприличии — это ясно, как апельсин. Никакого суетного тщеславия, никаких утонченных мыслей! Здравый, практический смысл, тихий нрав, любезные взаимоотношения, доброжелательность и достаток, насмешка как средство третировать глупцов, внимательность и заботливость по отношению к тем, кого любишь, досуг и покой, чтобы воспитывать своих детей в уважаемой и мирной среде, — что еще нужно двум воспитанным людям, двум разумным существам?
Постоянно возвращаясь к этой теме, Мариус убедил меня, что он прав, и я краснела, вспоминая о своих иллюзиях. Я начала исследовать свою совесть в прошлом и пришла к выводу, что избрала тогда ложный путь. Я поняла свое неосознанное кокетство с Фрюмансом и утешилась только тем, что он, вероятно, его не заметил. Потом я стала задавать себе вопрос, что произошло бы, если бы он был человеком тщеславным, беспринципным или попросту слабохарактерным. Передо мной предстал весь ужас моего позорного положения, нелепые мучения, подобные страданиям Галатеи, свет, предающий меня анафеме, укоры Женни, отчаяние бабушки. И все это могло случиться со мной, несмотря на невинность моей души и чистоту намерений! Я сурово осуждала себя и старалась примириться с собой, убеждая себя, что Мариус спас меня от пустых иллюзий и я должна быть благодарна ему.
Мой ум много потрудился над этим, и, чтобы успокоиться, я делала над собой страшные усилия, которые только отдаляли наступление желанного спокойствия. В первый же раз, как я увидела Фрюманса после исторгнутой мною у него исповеди, я смотрела на него уже другими глазами. Его внешняя красота, которой он действительно отличался и к которой я относилась равнодушно, теперь, казалось, обрела нравственное достоинство, чего я раньше как-то не замечала. Меня раздражали жадные взгляды, устремляемые на него Галатеей. Я была с ним серьезна и сдержанна, как никогда раньше. Я изучала его в аспекте пресловутого умения жить, столь высоко ценимого Мариусом, и нашла, что Фрюманс со своими простыми манерами и непринужденным разговором имеет вполне пристойный вид и говорит на хорошем литературном языке. Я без всякой задней мысли сказала это Мариусу, а он мне ответил:
— Конечно, Фрюманс — малый приличный и обладает чувством такта: таков закон и добродетель подъяремных.
Мне это словечко не понравилось, и я дала ему это понять. Мариус расхохотался и спросил, не собираюсь ли я пойти по следам Галатеи. Тут уж я так обиделась на подобное сравнение, что он вынужден был попросить у меня прощения.