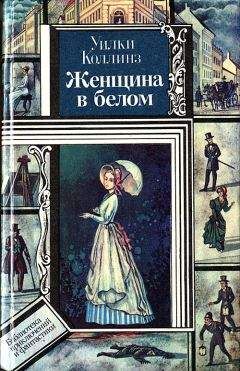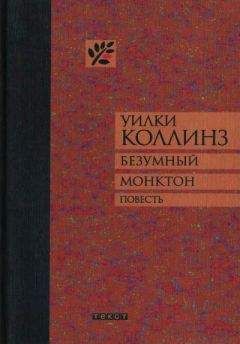(Выписки из дневника)
I
8 ноября. Лиммеридж
Сегодня утром уехал мистер Гилмор.
Разговор с Лорой, по-видимому, огорчил и удивил его больше, чем он хотел в этом признаться. Он так поглядел на меня, когда мы прощались, что я даже испугалась, не выдала ли Лора по неосторожности истинную причину своей печали и моей тревоги. Я настолько разволновалась, что отказалась ехать кататься верхом с сэром Персивалем и вместо этого пошла к Лоре.
С той самой минуты, как мне стало ясно, что я недооценила силу несчастной привязанности Лоры, я перестала верить себе и своим суждениям. Я должна была понять, что чуткость, сдержанность, доброта и благородство Уолтера Хартрайта, которые так нравились мне и завоевали мою искреннюю привязанность и уважение, были именно теми качествами, к которым Лора, такая чуткая и великодушная, должна была неотвратимо потянуться. И все же, пока она сама не призналась мне в этом, я и не подозревала, как глубоко это чувство запало ей в сердце. Сначала я думала, что время поможет ей исцелиться. Теперь я боюсь, что она никогда не разлюбит его и это пагубно отразится на всем ее будущем. Мысль, что я могла так жестоко ошибиться, заставляет меня теперь сомневаться во всем. Я не верю себе. Я стала крайне нерешительной. Несмотря на все доказательства, я еще не вполне верю сэру Персивалю. Я даже не решаюсь поговорить с Лорой. Сегодня утром я стояла у порога ее комнаты и не знала, спросить ли ее о том, о чем я хотела, или нет.
Когда наконец я вошла, она нетерпеливо ходила по комнате, возбужденная и взволнованная; прежде чем я успела вымолвить слово, она сама обратилась ко мне.
— Я хотела видеть тебя, — сказала она. — Посиди со мной, Мэриан! У меня нет больше сил! Я должна с этим покончить!
Щеки ее горели, движения были непривычно решительны, голос непривычно тверд. Альбом с рисунками Хартрайта, над которым она сидит часами, когда остается одна, был у нее в руках. Я тихонько отняла его у нее и положила подальше на столик, чтобы она его не видела.
— Расскажи мне, дорогая, как ты намерена поступить. Мистер Гилмор тебе что-нибудь посоветовал?
Она покачала головой.
— Нет, я думаю совсем о другом. Мистер Гилмор был очень добр и ласков со мной. Мэриан, мне стыдно, что я начала при нем плакать и напугала его. Я ничего не могу с собой поделать, я не могу удержаться от слез. Для самой себя, для всех нас мне надо собрать все свое мужество и раз навсегда покончить с этим.
— Ты хочешь сказать, что тебе придется набраться мужества, чтобы отказать сэру Персивалю?
— Нет, — ответила она, — чтобы сказать ему всю правду, дорогая!
С этими словами она обняла меня и положила мне голову на грудь. Напротив нас на стене висела миниатюра — портрет ее отца. Я наклонилась к Лоре и увидела, что она смотрит на этот портрет.
— Я не могу отказать ему сама, — продолжала она. — Чем бы все это ни кончилось, мне все равно не быть счастливой. Чтобы не мучиться в будущем угрызениями совести, вспоминая, как я нарушила свое обязательство и забыла предсмертное напутствие моего отца, мне осталось только одно, Мэриан…
— Что ты хочешь сделать? — перебила я.
— Сказать сэру Персивалю всю правду, — отвечала она. — Когда он все узнает, он сам вернет мне свободу, по собственному желанию, а не потому, что я прошу его об этом.
— Всю правду, Лора? О чем ты говоришь? Тебе достаточно сказать сэру Персивалю, что ты обручилась с ним не по своей воле, вот и все. Тогда он вернет тебе слово — он сам мне сказал.
— Но разве я могу это сделать, когда отец благословил нас с моего согласия? И я бы сдержала свое слово, не радуясь, наверно, но и не ропща… — Она замолчала, придвинулась ко мне и прислонилась щекой к моей щеке. — Я бы сдержала свое слово, Мэриан, если бы в моем сердце не выросла другая любовь, которой не было, когда я согласилась стать женой сэра Персиваля.
— Лора! Неужели ты до такой степени унизишься перед ним, что скажешь ему об этом?
— Я унижусь, если ценою обмана получу свободу и скрою от него то, что он вправе знать.
— Он ничего не должен знать!
— Нет, Мэриан, ты заблуждаешься! Я никого не могу обманывать, а тем более человека, которому отдал меня отец, — человека, которому я сама дала слово. — Она поцеловала меня. — Душа моя, — сказала она тихо, — будь ты на моем месте, ты поступила бы как я, но ты так меня любишь и так мной гордишься, что забываешь об этом. Пусть лучше сэр Персиваль осудит меня, но я не могу быть столь низкой, чтобы сначала изменить ему в мыслях, а потом для собственной выгоды скрыть это от него!
Я отстранила ее от себя с изумлением. Первый раз в жизни мы с ней поменялись местами: решимость проявляла она, а не я. Я смотрела на бледное, обреченное юное лицо, — в ее взгляде, с любовью устремленном на меня, я видела чистоту, правдивость, благородство, — и все предостережения и доводы, готовые слететь с моих губ, замерли, растаяли, как звук пустой и суетный… Я молча опустила голову. Будь я на ее месте, мелкое женское самолюбие, из-за которого лгут многие женщины, заставило бы и меня солгать.
— Не сердись на меня, Мэриан, — сказала она, ошибочно истолковав мое молчание.
Вместо ответа я притянула ее к себе. Слезы мои текут нелегко. Когда я плачу, мне кажется, что рыдания рвут меня на части, я пугаю ими всех окружающих, а главное, они не облегчают моего горя.
— Много дней, дорогая, думала я над этим, — продолжала она, сплетая и расплетая мне волосы с той детской привычкой вечно что-то крутить в пальцах, от которой миссис Вэзи до сих пор терпеливо и тщетно старалась ее отучить. — Я думала над этим очень серьезно и знаю, что у меня хватит мужества, — ведь совесть твердит мне, что я права. Дай мне поговорить с ним завтра — при тебе, Мэриан. Я не скажу ничего лишнего, ничего такого, за что нам с тобой пришлось бы потом краснеть. Но у меня будет легче на сердце, когда этот обман кончится. Я хочу знать и чувствовать, что я ничего от него не скрыла, и пусть он сам решает, как поступить, когда узнает от меня всю правду.
Она вздохнула и снова прильнула ко мне. Грустное предчувствие, что такой разговор ни к чему хорошему не приведет, тяжким бременем легло мне на душу, но, по-прежнему не веря себе самой, я сказала ей наконец, что все будет так, как она хочет. Она поблагодарила меня, и мало-помалу мы заговорили о другом.
Обедала она вместе с нами и держала себя с сэром Персивалем более непринужденно, чем раньше. Позднее, вечером, она подошла к роялю и заиграла какую-то громкую, бравурную пьесу. С тех пор как уехал бедный Хартрайт, она никогда не играет прелестных старых мелодий Моцарта, которые он так любил. Они уже не стоят на пюпитре. Она спрятала куда-то эти ноты, чтобы никто не мог попросить ее сыграть что-нибудь из ее любимых вещей.
В продолжение целого дня я не имела возможности узнать, изменила ли она свое утреннее решение. Я поняла, что оно неизменно, когда Лора, пожелав сэру Персивалю спокойной ночи, тихо прибавила, что хочет поговорить с ним завтра утром и просит его прийти к ней в гостиную, где мы обе будем ждать его. При этих словах он побледнел, и, когда подошел мой черед пожать ему руку, я почувствовала, что его рука слегка дрожит. Завтра решалось его будущее, и, по-видимому, он сознавал это.
Наши спальни рядом, и, как обычно, я зашла к Лоре пожелать ей спокойной ночи, пока она еще не заснула. Наклонившись, чтобы поцеловать ее, я заметила, что альбом с рисунками спрятан у нее под подушкой, куда она девочкой прятала свои любимые игрушки. У меня не хватило духу упрекнуть ее за это, я только показала на альбом и покачала головой. Она протянула мне руки и прижалась ко мне.
— Оставь его здесь на сегодня, — прошептала она. — Завтра мне, возможно, придется проститься с ним навеки.
9-е
Первое утреннее событие не очень-то улучшило мое настроение. Я получила письмо от бедняги Уолтера Хартрайта — в ответ на мое, в котором я описывала ему, как сэр Персиваль Глайд снял с себя подозрения, вызванные письмом Анны Катерик. Уолтер весьма сдержанно отзывается об этом и с горечью пишет, что не решается высказать свое мнение о тех, кто стоит выше него. Это грустно, но его краткий рассказ о самом себе огорчает меня еще больше. По его словам, с каждым днем ему становится все труднее входить в прежнюю колею, и он умоляет меня, если это возможно, помочь ему найти работу вдали от Англии, среди новой обстановки и новых людей. Я тем охотнее постараюсь исполнить его просьбу, что в конце его письма есть строки, которые меня просто встревожили.
Упомянув о том, что он ничего больше не слышал об Анне Катерик, он вдруг чрезвычайно таинственно и несвязно намекает на то, что, с тех пор как он вернулся в Лондон, за ним все время следят какие-то неизвестные люди. Он признает, что не может привести в доказательство никаких фактов, но это странное подозрение преследует его и днем и ночью. Я начинаю за него бояться: мне кажется, что его постоянная, навязчивая мысль о Лоре оказалась для него непосильным бременем.