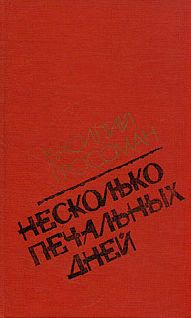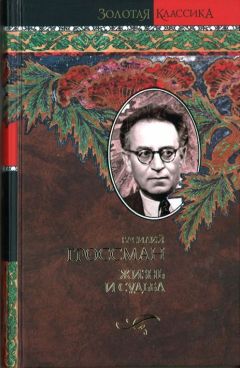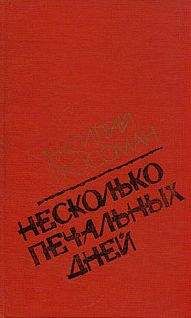– Послушай, – сказала она и посмотрела на него.
– Что?
– Нет, это я просто так. Как же я останусь одна?
И она погладила его по рукаву пальто.
– Хочешь, вместе поедем?
– Как можно? А работа?
Она замолчала. Ей снова хотелось рассердиться, но она не могла и начала ругать себя:
«Вот все мысли и планы о независимости, спокойной одинокой жизни разлетелись. А кто по ночам плакал, когда Ленка спала? Вообще, тут нельзя думать. О, господи, какая я гусыня!»
И она снова погладила его по рукаву пальто.
– Вот здесь станем, – сказал Ефремов шоферу.
Шофер посмотрел на вывеску у дверей, потом на своих
пассажиров и усмехнулся.
– Что, завидно? – спросил Ефремов.
Шофер, худой человек в военной форме, насмешливо ответил:
– Вы, может быть, во второй раз? Тогда – завидно.
Ефремов весело сказал:
– Вот и врешь! В первый – и последний.
«Совсем деревенский парень!» – подумала Екатерина Георгиевна.
В маленькой комнате загса было много народу.
Какая– то старушка, поглядев на Екатерину Георгиевну, сокрушенно сказала:
– Ах ты, красавица какая! – и всхлипнула, видно решив, что она разводится.
– Погляди, – тихо сказала Екатерина Георгиевна, – прямо на лицах написано, кто куда стоит.
И правда: в похоронной очереди стояли большей частью заплаканные пожилые женщины; детей регистрировали молодые отцы, расписывающиеся были смущены и нарядны, а разводящиеся все, как один, усмехались.
В этой маленькой душной комнате люди совершали самые основные дела жизни, и разговоры здесь шли серьезные, грустные – уж очень невелико было расстояние от стола, у которого жизнь встречала новорожденных, до стола, где провожали ушедших.
Какой– то старик заговорил с Ефремовым, и Екатерина Георгиевна, восхищаясь, смотрела, как серьезно Ефремов отвечал.
– Да что вы, гражданин, с ним говорите, с бесстыжим анафемом, – вмешалась старушка, вздыхавшая о красоте Екатерины Георгиевны. – Вы его лучше спросите, как он дочерям своим в глаза посмотрит? Двое внуков уже. У-у-у, ты! – и она топнула на старика ногой.
Должно быть, оттого, что большинство людей, говоря о разводах, вздыхали и сокрушенно качали головами, Екатерина Георгиевна особенно нетерпеливо глядела на медленно приближающуюся к столу очередь. И все, что происходило в ее душе, здесь, в этой маленькой комнате, уже не казалось ей сложным и таинственным, а сразу сделалось простым, ясным и необходимым.
Наконец девица с пухлым лицом записала их фамилии в книгу и, тряхнув челкой, сказала:
– Три рубля.
– Давай пополам, – предложила Екатерина Георгиевна, и каждый из них положил рублевую бумажку и полтинник мелочью.
Они вышли из загса под руку, серьезные и молчаливые. Шофер стоял подле машины.
– Пожелаю вам счастья! – сказал он.
Екатерина Георгиевна вдруг почувствовала, как сладко сжалось ее сердце, и на глазах у нее выступили слезы.
В купе мягкого вагона, кроме Ефремова, сидели три человека: один – высокий, с суровым профилем Амундсена и с детским, слабым подбородком; второй – широкоскулый молодой человек, на ремне у него болтался фотографический аппарат; третий – небритый, страдавший одышкой.
Все трое ехали по одному делу; из их разговора Ефремов понял, что высокий – режиссер кино, скуластый – оператор, а небритый – писатель, автор сценария, по которому режиссер с оператором должны были снимать картину о Донбассе.
Они тотчас же открыли чемоданы и выставили на стол большое количество бутылок пива. Часть бутылок не поместилась на столе, и скуластый оператор, которого называли Мортирыч, положил их в сетку над головой.
– Товарищ, пивка? – предложил Ефремову режиссер и, увидев, что Ефремов хочет отказаться, живо добавил: – Нет, нет! Прошу вас, пожалуйста!
– Ладно! – сказал Ефремов. – Тут у меня закуска есть, не знаю только что: жена прямо к поезду привезла.
Попутчики почему-то не ахнули, узнав, что Ефремов женат. Это его удивило и немного обидело. Писатель выпил залпом стакан и сказал:
– Пиво холодное, в вагоне холодно, за окном холод… – Он посмотрел в окно, на поле, покрытое снегом, на тонкие деревья, колеблемые от самой земли до ветвей сильным ветром, и сказал: – Вот, кажется, из того леска выбежит лисица, а за ней выедет всадник в меховой шапке, доезжачий Ивана Грозного, затрубит протяжно в рог… Все поглядели в окно.
– Да, слабо топят, черти! – сказал Мортирыч и, смеясь, добавил: – И почему вы, Андрей Петрович, не написали сценарий из сухумской жизни? Там в апреле красота.
– Недоучел климатический фактор, старик, – сказал режиссер, – но я не жалею. Железное сердце страны! Ленты именно нужно вертеть про главное – уголь, сталь, хлеб.
– Жизнь, смерть, любовь, – добавил писатель.
– Да, за жизнь людей, – согласился режиссер. – Человека интересует человек. Законный интерес. Хорошая лента должна идти в глубину: покажите настоящий характер, сумейте передать простое чувство – вот задача.
– А кто орал про конфликты, драматические узлы, сценические ситуации? – спросил писатель.
– Я – до вчерашнего дня. Сегодня ночью я все понял. Сюжет чеховской «Степи» в том, как мальчика везли в школу учиться, а он в дороге простудился и заболел насморком. А под этим сюжетом – жизнь России, философия и печаль бренного бытия. Вот так нужно работать!
– Да! Это – настоящее искусство, – сказал писатель.
– В ваших словах много правоты, – сказал Мортирыч, – вот только как мы с гостиницей устроимся: обязательно съезд какой-нибудь в Сталине.
– Съезд ударников угля, – подтвердил Ефремов.
– Ну, что ты скажешь! – проговорил Мортирыч. – Надо было бронировать из Москвы.
– А я уже отвык от всего этого, – вздохнул режиссер. – Сознаюсь: в последний раз выезжал из Москвы шесть лет тому назад.
– Ого! А я вот езжу много, – сказал писатель и, потерев руки, добавил: – Слушайте, в вагоне-то прохладно, надо будет попросить у проводника два одеяла.
Ефремов взобрался на верхний диван.
«Сколько интересного народа на свете! – думал он, глядя на красивый профиль режиссера. И парень, видно, неглупый, и наружность у него настоящая. Могла б Катя влюбиться в такого? Квартиру нужно, заводской дом, кажется, к осени достроят. Мебель нужно, трельяжи. Печально с Васильевым расставаться. Шутка сказать – Васильев! Или уговорить его переехать вместе с нами? Да, наверное, могла б влюбиться в режиссера. Интересно, что Васильев ответит на письмо? Вот ахнет! И почему отказываться от ленинградской аппаратуры? Эта колонка дает почти теоретический выход».
Вдруг он подумал, что целую неделю не увидит Екатерины Георгиевны, захотел вспомнить ее лицо, голос – и не мог.
– Ох ты! – громко, почти испуганно сказал он и приложил руку к холодному стеклу, потом к груди.
Чувство тоски охватило его, ему мучительно захотелось вернуться. Ведь отъехали не больше пятидесяти километров – может быть, соскочить на ходу? За ночь он бы мог дойти до Москвы.
Он привстал, – проводник стелил нижние постели, попутчики курили в коридоре.
Только сейчас он по-настоящему понял, что произошло. Видеть ее, видеть, говорить с нею. Он задохнулся, точно ему нечем было дышать…
Ночью он беспокойно спал, часто просыпался и глядел через стекло, залепленное мокрым снегом. Его огорчало, что поезд все шел и шел, удалялся от Москвы, шел быстро; внизу тревожно позванивали пустые бутылки.
Утром он проснулся и отдернул занавеску. Поезд стоял. Он увидел молодую, зеленую траву, украинские хаты с мраморно-белыми стенами, освещенными солнцем; босые дети бегали вдоль поезда, поднимая к окнам кувшины с молоком, покрытым толстой шоколадной коркой. Он взглянул вверх и зажмурился, – солнце весны сияло на всем огромном просторе светлого неба.
Он широко осклабился, точно заглатывая весну, тепло, свет, подтянулся к стеклу, уперся в него лбом: оно было теплым. Окна верхнего этажа станционного здания были открыты настежь: молодая женщина, склонив голову, расчесывала волосы и поглядывала на пассажиров из темной, казавшейся прохладной комнаты.
Вскоре поезд тронулся. Попутчики внизу восхищались весной и теплом; режиссер то и дело, волнуясь, говорил:
– Тракторы! тракторы! Глядите: тракторы! А вот керосиновые цистерны… грузовик… Ради бога, посмотрите: какие-то башни, а там провода уходят в поле… Что происходит в этой изумительной стране! – вкрадчиво, точно убеждая кого-то, говорил он. – Это, знаете… – Он закрыл глаза и пошевелил пальцами: – Это миллиарды, триллионы пудов тяжелой, страшной земли поднялись в воздух и сделали огромный прыжок, вместе с людьми, домами, садами прянули на пять веков вперед…
– А доезжачего и лисицы там не видно? – насмешливо глядя на писателя, спросил Ефремов.