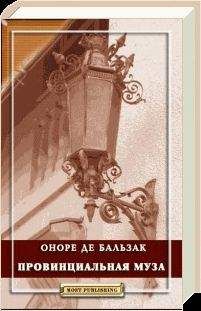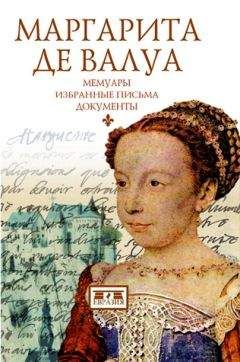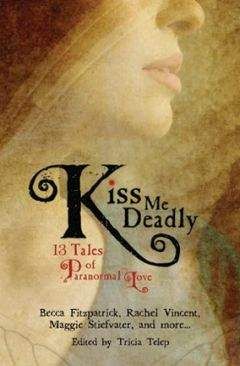Госпожа де ла Бодрэ так любила Этьена, что это благоразумие, достойное г-на де Кланьи, доставило ей удовольствие и осушило ее слезы.
«Значит, он любит меня ради меня самой!» — подумала она, глядя на него улыбающимися глазами.
После четырех лет близости в любви этой женщины соединились все оттенки чувства, открытые нашим аналитическим умом и порожденные современным обществом; Бейль (Стендаль), один из замечательнейших людей нашего времени, о недавней потере которого еще скорбит литература, первый прекрасно их обрисовал. Лусто производил во всем существе Дины какое-то магнетическое глубокое потрясение, которое приводит в расстройство душевные, умственные и физические силы женщины и разрушает в ней всякую способность сопротивления. Стоило Лусто взглянуть на нее, положить ей руку на руку, и вот уже Дина — вся покорность. От нежного слова, от улыбки этого человека расцветала душа бедной женщины, обрадованной или опечаленной каждым ласковым или холодным его взглядом. Когда она шла с ним под руку по улице или по бульвару, приноравливаясь к его шагу, то растворялась в нем настолько, что теряла сознание своего «я». Завороженная умом, зачарованная манерами этого человека, она в его пороках видела лишь легкие недостатки. Она любила дым сигары, который ветер заносил к ней в комнату из сада, и, вдыхая его, не только не морщилась, но наслаждалась им. Она ненавидела книгопродавца или издателя газеты, когда тот отказывал Лусто в деньгах, ссылаясь на огромную сумму уже взятых авансов. Более того, она оправдывала этого цыгана, когда он, написав повесть, рассчитывал на новый гонорар, тогда как ею следовало погасить деньги, полученные вперед. Такова, вероятно, настоящая любовь, включающая в себя все виды любви: любовь сердечную, любовь рассудочную, любовь-страсть, любовь-каприз, любовь-склонность, согласно определениям Бейля. Дидина любила настолько, что в иные минуты, когда ее критическое чувство, такое верное и неустанно упражнявшееся со времени ее приезда в Париж, позволяло ей ясно читать в душе Лусто, страсть все же брала верх над рассудком и подсказывала ей оправдания.
— А я, — ответила она ему, — кто же я? Женщина, поставившая себя вне общества. Если я лишилась женской чести, почему бы и тебе ради меня немного не поступиться мужской честью? Разве мы не живем вне общественных приличий? Почему не принять от меня того, что Натан принимает от Флорины? Мы сочтемся, когда будем расставаться, а… ты ведь знаешь… нас разлучит только смерть. Твоя честь, Этьен, — в моем блаженстве; как моя — в моей верности и твоем счастье. Если я не даю тебе счастья, всему конец. Если же я тебя огорчаю, накажи меня. Долги наши уплачены, у нас десять тысяч франков ренты, а вдвоем мы в год, конечно, заработаем восемь тысяч франков. Я буду писать пьесы! С полутора тысячами франков в месяц разве мы не станем богаты, как Ротшильды? Будь спокоен. Теперь у меня появятся чудесные платья, я всякий день буду дарить тебе радость удовлетворенного тщеславия, как в день премьеры Натана…
— А твоя мать? Ведь она ежедневно ходит к обедне и хочет привести священника, чтобы он уговорил тебя отказаться от этого образа жизни.
— У всякого свои слабости. Ты куришь; она, бедняжка, читает мне наставления! Но она заботится о детях, водит их гулять, предана мне безгранично, боготворит меня; не можешь же ты запретить ей плакать!..
— Что скажут обо мне?..
— Но мы живем не для света! — воскликнула она, поднимая Этьена и усаживая его рядом с собой. — И вообще когда-нибудь мы поженимся… на нашей стороне случайности морского путешествия…
— Об этом я не подумал! — наивно вскричал Лусто, сказав про себя: «Успею порвать и после возвращения этого карлика ла Бодрэ».
Начиная с этого дня Лусто зажил роскошно; на первых представлениях Дина могла поспорить с самыми изящными женщинами Парижа. Избалованный домашним благополучием, Лусто из фатовства разыгрывал перед своими друзьями роль человека пресыщенного, замученного, разоренного г-жой де ла Бодрэ.
— О, как одолжил бы меня друг, который избавил бы меня от Дины! Но это никому не удастся! — говорил он. — Она так меня любит, что выбросится в окошко по первому моему слову.
Журналист старался вызвать к себе сочувствие и, отправляясь развлекаться, принимал меры предосторожности против ревности Дины. Словом, он изменял ей без зазрения совести. Г-н де Кланьи был искренне огорчен унизительным положением Дины, которая могла быть так богата, так высоко вознесена и уже находилась на пороге осуществления своих давнишних честолюбивых мечтаний. Когда он явился к ней и сказал: «Вас обманывают!» — она ответила:
— Я знаю.
Прокурор опешил. Оправившись, он хотел сделать какое-то замечание, но г-жа де ла Бодрэ перебила его на первом слове:
— Любите вы меня еще? — спросила она.
— Я готов умереть за вас! — воскликнул он, выпрямляясь во весь рост.
Глаза бедняги загорелись, как факелы, он задрожал, как лист, у него захватило дыхание, зашевелились волосы, — он поверил в счастье стать мстителем за своего кумира, и эта скудная награда наполнила его таким ликованием, что он едва не лишился рассудка.
— Чему же вы удивляетесь? — спросила она, заставив его снова сесть. — Такова и моя любовь.
Прокурор понял тогда этот аргумент ad hominem![64] И не мог сдержать слезы, — он, только что подписавший человеку смертный приговор!
Пресыщенность Лусто — эта ужасная развязка незаконного сожительства — проявлялась в тысяче мелочей, подобных песчинкам, ударяющимся в цветные стекла беседки, где мы предаемся волшебным грезам любви. Эти песчинки, обращающиеся в камешки, Дина заметила только, когда они приняли размеры булыжника. Г-жа де ла Бодрэ наконец вполне поняла Лусто.
— Это поэт, — говорила она матери, — поэт, совершенно беззащитный против несчастья, малодушный из лени, а не от недостатка любви, и чересчур падкий на чувственные наслаждения; он как кошка, но можно ли ненавидеть кошку? Что станется с ним без меня? Я помешала его браку, у него нет будущего. В нищете талант его погибнет.
— О моя Дина! — воскликнула г-жа Пьедефер. — В каком аду ты живешь!.. Какое чувство даст тебе силу устоять?..
— Я буду ему матерью! — сказала она.
Бывают ужасные положения, когда человек на что-нибудь решается лишь после того, как друзья заметят его позор. Он идет на сделку с самим собой, пока ему удается ускользнуть от критика нравов, являющегося в роли обвинителя. Г-н де Кланьи, с неловкостью patito,[65] только что сделался палачом Дины!
«Я хочу сохранить мою любовь и буду тем же, чем была госпожа Помпадур, которая хотела сохранить свою власть», — сказала она себе, когда уехал г-н де Кланьи.
Слова эти ясно говорят о том, что ей тяжко становилось нести бремя любви и что любовь эта превращалась в труд вместо отрады.
Новая роль, взятая на себя Диной, была страшно мучительна, но Лусто не облегчал ее исполнения. Когда ему хотелось уйти после обеда, он разыгрывал очаровательные сценки дружбы, говорил Дине слова, полные нежности; он водил свою подругу на цепи ее рабского чувства, а когда эта цепь натирала наболевшее место, неблагодарный спрашивал: «Разве тебе больно?»
Эти лживые ласки, это притворство подчас приводили к оскорбительным последствиям для Дины, которая еще верила возвратам его нежности. Увы! Мать с постыдной легкостью уступала в ней место возлюбленной. Она чувствовала себя игрушкой в руках этого человека и наконец сказала себе: «Ну что ж, пусть я буду его игрушкой!», находя в этом острое наслаждение, отраду приговоренного к смерти.
Эта сильная духом женщина при одной мысли об одиночестве чувствовала, что мужество покидает ее. Она предпочла терпеть заведомую, неизбежную пытку жестокой близости, только бы не лишиться радостей любви, тем более восхитительных, что рождались они посреди колебаний, в ужасной борьбе с самой собой, из «нет», обращавшегося в «да»! Каждое мгновение становилось найденной в пустыне каплей солоноватой воды, которую путешественник пьет с большим наслаждением, чем если бы это было лучшее вино за княжеским столом.
Гадая в полночь, вернется он или не вернется, Дина оживала, только заслышав знакомый звук шагов Этьена или узнав его звонок. Нередко она прибегала к сладострастью, как к узде, и находила удовольствие в борьбе со своими соперницами, стараясь ничего не оставить им в этом пресыщенном сердце. Сколько раз переживала она трагедию «Последнего дня приговоренного»,[66] говоря себе: «Завтра мы расстанемся!» И сколько раз одно слово, один взгляд, одна нечаянная ласка вновь возвращали ее к любви! Временами это бывало ужасно. Не раз, кружа в своем садике около газона с тянувшимися вверх чахлыми цветами, думала она о самоубийстве!.. Она не истощила еще сокровищницы самоотвержения и любви, таящейся в сердцах любящих женщин. «Адольф» был ее библией, она его изучала; ибо ничего она так не боялась, как быть Элеонорой. Она избегала слез, не давала воли горьким чувствам, так искусно описанным критиком, которому мы обязаны анализом этого хватающего за душу произведения; его толкование казалось Дине чуть ли не выше самой книги. Поэтому она часто перечитывала великолепную статью единственного настоящего критика «Ревю де Де Монд», предпосланную ныне новому изданию «Адольфа».