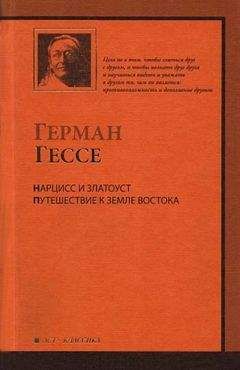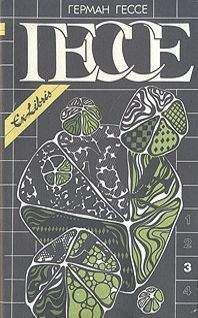Лето и осень клонились к концу, трудно приходилось Гольдмунду в скудные месяцы, в упоении бродил он во время приятной благоуханной весны, времена года так быстро сменяли друг друга, так быстро высокое летнее солнце спускалось опять. Шел год за годом, и казалось, будто Гольдмунд забыл, что на земле есть что-то другое, кроме голода и любви и этой безмолвной жуткой торопливости времен года; он совершенно погрузился в материнский, инстинктивный первобытный мир. Но в каждой грезе и каждый раз раздумывая на отдыхе, глядя на цветущие и увядающие долины, он был полон созерцания, был художником, страдал от мучительной тоски, заклиная духом и наполняя смыслом дивную текучую бессмыслицу жизни.
Однажды ему повстречался товарищ, после кровавого случая с Виктором он никогда больше не странствовал иначе как один, тот незаметно присоединился к нему, и он никак не мог от него отделаться. Правда, он был не похож на Виктора, он шел паломником в Рим, это был еще молодой человек в рясе и шляпе паломника, звали его Роберт, он был родом с Боденского озера. Этот человек, сын ремесленника, какое-то время учился у монахов ордена святого Галла, еще мальчиком вбил себе в го лову паломничество в Рим и, будучи преданным этой любимой идее, использовал первую же возможность ее осуществить. Этой возможностью оказалась смерть отца, в мастерской которого он работал столяром. Едва старика похоронили, Роберт объявил матери и сестре, что теперь ничто не удержит его от исполнения своего желания и во искупление своих и отцовских грехов он отправится паломником в Рим. Напрасно сетовали женщины, напрасно бранили его, он настоял на своем и вместо того, чтобы заботиться об обеих женщинах, отправился в путь без материнского благословения, под злобные ругательства сестры. Что его гнало, так это прежде всего желание странствовать да поверхностная набожность, то есть склонность к пребыванию вблизи церковных мест и духовных учреждений, радость от церковной службы, крещений, похорон, мессы, запаха ладана и горящих свечей. Он знал немного по – латыни, но не к учености стремилась его детская душа, а к покою и тихой мечтательности под сенью церковных сводов.
Мальчиком-служкой он страстно отдавался службе. Гольдмунд не принимал его особенно всерьез и все-таки полюбил, чувствуя себя немного родственным ему в инстинктивном стремлении к странствиям и неизвестному. Итак, Роберт, довольный, отправился тогда странствовать и добрался-таки до Рима, пользуясь гостеприимством бесчисленных монастырей и аббатств, посмотрел горы и юг, очень хорошо чувствуя себя в Риме среди всех церквей и благочестивых мероприятии, прослушал сотни месс и поклонился самым знаменитым и самым святым местам, надышавшись запахом ладана больше, чем полагалось за его мелкие юношеские грехи и грехи его отца. Год или больше он отсутствовал, а когда наконец вернулся и вошел в отчий дом, его встретили не как блудного сына, сестра же за это время освоила домашние обязанности и права, наняла усердного помощника столяра и вышла замуж, управляясь с домом и мастерской так ловко, что после короткого пребывания там вернувшийся почувствовал себя лишним, и никто не уговаривал его остаться, когда он вскоре опять заговорил об новом путешествии. Он не был в обиде, позволил себе взять c матери несколько сбереженных грошей, нарядился опять в костюм паломника и отправился в странствие без цели, через всю империю, полудуховный странник.
Медные памятные монеты из известных паломнических мест и освященные четки позвякивали на нем.
Итак, он повстречался с Гольдмундом, прошел одиндень вместе с ним, обмениваясь странническими воспоминаниями, потерялся в ближайшем городке, попадался ему снова то тут, то там и, наконец, совсем остался с ним, покладистый и услужливый спутник. Гольдмунд нравился ему очень, он домогался его внимания мелкими услугами, восхищался его знаниями, его смелостью, умом, ему полюбились его здоровье, сила и искренность. Они привыкли друг к другу, потому что и Гольдмунд был покладист. Только одного не выносил он: когда бывал одержим своей тоской или раздумьями, то упорно молчал и смотрел мимо другого, как будто того не было, и тогда нельзя было ни болтать, ни спрашивать, ни утешать, а нужно было предоставить его самому себе и дать отмолчаться. Этому Роберт скоро научился. С тех пор как он заметил, что Гольдмунд знает наизусть множество латинских стихов и песнопений, услышал, как тот объяснял перед порталом одного собора значение каменных фигур, увидел, как он на голой стене, у которой они Отдыхали, быстрыми размашистыми линиями нарисовал сангиной человеческие фигуры, он считал своего товарища любимцем Бога и почти магом. Что он был еще и любимцем женщин и завоевывал иную одним взглядом и улыбкой, Роберт тоже заметил; это нравилось ему меньше, но не восхищаться этим он все-таки не мог.
Их путешествие как-то неожиданно прервалось. Однажды они проходили вблизи какой-то деревни, их встретила группа крестьян, вооруженных дубинками, палками и цепами, и предводитель крикнул им издалека, чтобы они тотчас поворачивали обратно и убирались навсегда. к черту, иначе будут биты насмерть. Пока Гольдмунд стоял, желая узнать, что все-таки случилось, один камень попал ему в грудь. Роберт, к которому он обернулся, убегал прочь, как одержимый. Угрожая, крестьяне приближались, и Гольдмунду ничего не оставалось, как менее поспешно последовать за убегающим. Дрожа, поджидал его Роберт под крестом с распятием, стоявшим посреди поля.
– Ты бежал, как герой, – смеялся Гольдмунд. – Но что это взбрело в глупые головы этим грязнулям? Разве война? Выставляют вооруженную охрану своего гнезда и никого не хотят пускать! Удивительно, что бы это значило?
Они оба не знали. Лишь на следующее утро они коекак узнали, войдя в одиноко стоящий крестьянский двор, и нашли разгадку тайне. Этот двор, состоящий из жилья, хлева и сарая и окруженный зеленым участком с высокой травой и множеством фруктовых деревьев, был странно тих, как во сне: ни человеческого голоса, ни звука шагов, ни детского крика, ни звона отбиваемых кос, ничего не было слышно; на участке в траве стояла корова и мычала, по ней было видно, что пришло время ее доить. Они подошли к дому, постучали, не получив ни какого ответа, пошли к хлеву, он стоял открытый и пустой, пошли к сараю, на соломенной крыше которого ярко блестел на солнце светло-зеленый мох, не нашли и там ни души. Вернулись к дому, удивленные и озадаченные безлюдностью этого жилища, постучали еще раз кулаками в дверь, опять не последовало никакого ответа. Гольдмунд попытался открыть дверь и, к своему удивлению, нашел ее незапертой, толкнул дверь, вошел в темную комнату. «Мир вам, – воскликнул он громко, – никого дома?», но все оставалось безмолвным.
Роберт остался у двери. С любопытством Гольдмунд прошел вперед. Пахло в хижине плохо, пахло особенно и отвратительно. В очаге было полно золы, он подул в него, на дне еще тлели искры на обуглившихся поленьях. В полумраке за плитой он увидел кого-то сидящего; кто-то сидел в кресле и как будто спал, это была старая женщина. Зовы не помогали, дом казался заколдованным.
Он слегка потрепал женщину по плечу, она не шевельнулась, и теперь он увидел, что она сидела, окутанная паутиной, нити которой шли к волосам и коленям. «Она мертва», – подумал он с легким страхом и, чтобы убедиться, стал разводить огонь, мешал угли и дул, пока не разгорелось пламя и он мог зажечь длинную лучину. Он посветил сидящей в лицо. Под седыми волосами он увидел голубовато-черное лицо трупа, один глаз был открыт и блестел свинцовой пустотой. Женщина умерла здесь, сидя в кресле. Ну что ж, ей уже нельзя было помочь.
С горящей лучиной в руке Гольдмунд пошел искать дальше и в том же помещении нашел еще один труп, лежащий на пороге в заднюю комнату, мальчика лет восьми или девяти, с распухшим, искаженным лицом, в одной рубашке. Он лежал животом на пороге, обе руки были сжаты в крепкие, яростные кулачки.
Это второй, подумал Гольдмунд; как в жутком сне пошел он дальше, в заднюю комнату, там ставни были открыты и сиял светлый день. Осторожно погасил он свой светильник, притоптав искры на полу.
В задней комнате стояли три кровати. Одна была пуста, из – под грубого серого полотна выглядывала солома. Во второй лежал еще один, бородатый мужчина, застывший на спине, с откинутой головой и торчащим вверх подбородком и бородой; должно быть, крестьянин. Его запрокинутое лицо слабо светилось незнакомыми красками смерти, рука свешивалась до пола, там валялся глиняный кувшин для воды, вылившаяся вода еще не совсем впиталась в пол, она стекла в углубление, образовав маленькую лужу. А в другой кровати лежала целиком закрытая в льняное покрывало и завернутая в грубошерстное одеяло крупная сильная женщина, с лицом, вдавленным в постель, распущенные, цвета соломы волосы мерцали при ярком свете. Здесь же, сплетясь с ней, как пойманная в растерзанную простыню и задушенная, лежала девочка – подросток, тоже светловолосая, с серо-голубыми пятнами на мертвом лице.