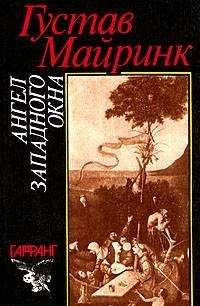Между тем мы подошли к дому, в котором находилось липотинское логово — крошечная лавочка с жилым помещением на задах. Я хотел было попрощаться, но мой спутник внезапно сказал:
— Кстати, вчера я получил посылочку с довольно милыми безделушками из Бухареста; вы, конечно, в курсе, именно таким кружным путем доходят до меня время от времени кое-какие антикварные вещицы из Совдепии. К сожалению, ничего выдающегося, однако, быть может, что-нибудь всё же окажется достойным вашего внимания. Как у вас со временем? А то заскочим на минутку?
Мгновение я колебался: дома меня, возможно, ждала телеграмма от Гертнера с коррективами дня и часа его приезда, однако мысль о непунктуальности бывшего однокашника вызвала во мне новый прилив раздражения, и я поспешно, стараясь заглушить трезвый голос рассудка, сказал:
— Конечно найдется, пойдёмте.
Липотин извлек из кармана какой-то допотопный ключ, замок недовольно огрызнулся, дверь лавки со скрипом, но приоткрылась, и я, спотыкаясь, вступил в темноту.
При свете дня я неоднократно бывал в тесном закутке старого антиквара; что касается романтики запустения, то лучшего и желать нельзя. Не будь этот изъеденный вековечной сыростью полуподвал, с точки зрения любого мало-мальски состоятельного европейца, непригодным для обитания, вряд ли Липотин мог бы претендовать на эту нору при том дефиците жилья, который сложился в послевоенное время.
Щёлкнула зажигалка, и хозяин при свете крошечного огонька принялся копаться в дальнем углу. Проникающего из переулка сумрачного освещения было явно недостаточно, чтобы мои глаза могли сориентироваться в развалах заплесневелой рухляди. Бензиновый язычок в руках Липотина дрожал и метался подобно блуждающему огню над густо-коричневой трясиной, из которой выглядывали отдельные детали мебели, какие-то крестовины, багеты, обломки полузатонувших вещей… Наконец в углу через силу затеплился огарок свечи, осветивший вначале лишь самые ближние предметы, и прежде всего жуткого, непристойного идола из полированного, жирно лоснящегося стеатита, в кулаке которого вместо отсутствующего фаллоса была зажата свеча. Липотин все ещё стоял перед ним согнувшись, видимо снимая нагар, но выглядело это так, словно он исполнял перед идолом какую-то таинственную церемонию. В конце концов он зажег керосиновую лампу, огонь которой через зелёный стеклянный колпак относительно сносно осветил помещение. Все это время я стоял, боясь пошевелиться, в ужасающей тесноте, и только теперь облегченно перевел дух.
— У вас, как при сотворении мира, таинство под названием «Да будет свет» происходит поэтапно! — сказал я. — До чего тривиальным и обыденным в наше время, после такого троекратного откровения священного огня, кажется прозаическое нажатие электрической кнопки!
Из угла, где Липотин все ещё с чем-то возился, донесся сухой, по-стариковски ворчливый голос:
— Ваша правда, почтеннейший! Тот, кто слишком резко меняет благодатную тьму на сияние дня, рискует испортить зрение. Такова роковая ошибка вас всех, европейцев!
Я не выдержал и рассмеялся. Вот оно, снова то самое азиатское высокомерие в чистом виде, которое изо всего умудряется извлечь превосходство и даже убогую нищету жалкой городской дыры как по мановению волшебной палочки превращает в её достоинство! Меня так и подмывало затеять налепый спор о благодати и проклятии столь популярной ныне электрификации, поскольку я хорошо знал, что в подобных случаях Липотин всегда может щегольнуть парой странно остроумных и едких замечаний, но тут мой рассеянно блуждающий взор остановился на отсвечивающем тусклой позолотой контуре рамы: искусная старофлорентийская резьба обрамляла потемневшее от времени, местами и вовсе слепое зеркало. Подойдя ближе, я сразу признал в великолепной работе старательную и тонко чувствующую руку семнадцатого века. Рама понравилась мне исключительно, и мною тотчас овладело страстное желание обладать этой вещью.
— Да, да, оно как раз из того, что поступило вчера, — подошёл ко мне Липотин, — только эта вещь далеко не самая лучшая. За неё и деньги-то просить стыдно.
— Вы имеете в виду стекло? За него — конечно.
— Да и за раму тоже, — сказал Липотин. Он энергично запыхтел своей сигарой, и огненный отсвет, казалось, передернул его зеленоватое в мерцании лампы лицо.
— За раму?.. — Я в нерешительности умолк. Липотин считает её неподлинной. Дело его! Но мне тотчас стало неловко за эту свойственную всем коллекционерам алчность. Грешно обманывать такого нищего бедолагу, как Липотин. Он не сводил с меня своего острого взора. Заметил ли он моё смущение? Странно: на лице его мелькнуло что-то очень похожее на разочарование. Недоброе предчувствие кольнуло меня. С некоторым усилием я закончил фразу:
— Но, на мой взгляд, с ней всё в порядке.
— В порядке? Разумеется! Если не считать того, что это копия. Петербургская копия. Оригинал я много лет назад продал князю Юсупову.
Поднеся зеркало к лампе, я принялся внимательно рассматривать его. О качестве петербургских подделок я знаю всё. В искусности русские могут вполне потягаться с китайцами. И всё же эта зеркальная рама — подлинник!.. Совершенно случайно я обнаружил скрытое глубоко в резьбе пышно разросшихся завитков, полузамазанное старым болюсом флорентийское клеймо. Инстинкт коллекционера и охотника яростно сопротивлялся, запрещая поделиться моим открытием с Липотиным. С превеликим трудом я подавил в себе искус и честно сказал:
— Даже для самой совершенной копии рама слишком хороша. Убежден в её подлинности.
Липотин раздраженно пожал плечами:
— Ну если это оригинал, то князь Юсупов получил копию. Впрочем, это не имеет значения — я получил за неё как за оригинал, а князь, его дом и коллекция всё равно пали жертвой взбунтовавшейся стихии. Таким образом, наш спор можно считать решенным, и каждый остался при своём.
— А старинное, явно английского происхождения стекло? — спросил я.
— Подлинное, если вам так угодно. Это родное стекло зеркала. В свою раму Юсупов велел вставить новое венецианское, так как покупал зеркало, а не коллекционный экспонат. Кроме того, он был суеверен: говорил, что в это зеркальное стекло заглядывало слишком много людей. А это может принести несчастье.
— Итак?..
— Итак, можете оставить эту вещь у себя, если она вам нравится, дорогой покровитель. И ни слова больше о цене.
— Ну а если рама всё же окажется подлинной?
— Копия или оригинал — она оплачена. Позвольте мне поднести вам в подарок этот привет с утраченной родины.
С упрямством русских я уже знаком. Сказал — значит, быть по сему: копия или оригинал — хочешь не хочешь, а подарок принимай, в противном случае — смертельная обида. И на клеймо вроде неудобно ему указывать: заденешь профессиональную честь — опять обида…
Вот так я и стал обладателем чудесной рамы — великолепного образца раннефлорентийского барокко!
Про себя же я решил незаметно возместить щедрому дарителю его потери, купив что-нибудь ещё по выгодной для него цене. Однако всё, что он мне показывал, не вызывало у меня ни малейшего интереса. Увы, осуществить добрые намерения гораздо сложнее, чем следовать на поводу у собственного эгоизма; в общем, через полчаса, несколько смущенный, я отправился домой с липотинским подарком, так и не оставив ничего взамен, унося с собой благое намерение при первой же возможности сполна рассчитаться с ним покупками.
Домой я пришел около восьми, на письменном столе — ничего, кроме короткой записки от моей экономки, в коей она извещала, что её преемница заходила сразу после шести с просьбой перенести вступление в должность на восемь вечера, дескать, по не зависящим от неё причинам. Экономка уехала в семь, следовательно, «смутное время» домашнего междуцарствия я очень кстати и не без пользы провел у Липотина и в ближайшие несколько минут мог рассчитывать на появление моей новой опоры, в случае если эта доктор Фромм умеет держать слово. Хотя чего ждать от незнакомой женщины, если даже мужчина, старый приятель оказался столь необязательным!
И чтобы отвлечься от неприятных мыслей, я развернул пакет с подарком русского, который все ещё держал под мышкой. В беспощадно ярком электрическом свете совершенная красота старинного зеркала нисколько не поблекла. Напротив, в глубокой зелени стекла с редкими опаловыми пятнами даже появилось какое-то изысканное очарование древности; в своей раме, покрытое тончайшим налётом оксидированного серебра, оно напоминало скорее филигранную шлифовку туманного, «мохового» агата — а может, гигантского смарагда? — чем мутную поверхность полуслепого зеркала.
Завороженный этой внезапно открывшейся мне благородной красотой, я поставил зеркало перед собой и погрузился в изумрудную бесконечность его пронизанной таинственно мерцающими переливами бездны…