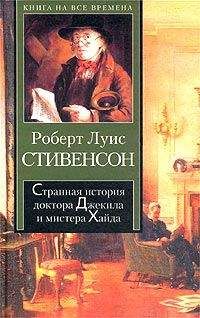— Да, я это тоже замечал, — сказал Денис. — Мы называем это недугом мышления. Так вы говорите, «Фавна» нашли там, на материке?
— Невдалеке от старинного города Локри, на всё ещё принадлежащем мне клочке земли. Подозреваю, что там ещё откопают немало греческих реликвий. Несколько лет назад мы нашли Деметру{101}, сильно пострадавшую мраморную голову, она теперь в Париже. В ясные дни это место можно разглядеть прямо отсюда, с крыши моего дома. Те люди, мистер Денис, были нашими учителями. Не позволяйте обмануть себя рассказами о развратной роскоши, царившей некогда на этих берегах, не забывайте, что ваши представления о той эпохе преломлены стоицизмом римлян и английским пуританством, в сердце которого гнездится зависть — зависть несовершенного существа к тому, кто осмеливается полностью выразить себя. Мир заражён чумой — чумой умеренности. Не кажется ли вам, что человек, создавший этого «Фавна», имел право на хороший обед?
— Я пока не совсем в нём разобрался, — сказал Денис, продолжая разглядывать статуэтку.
— Ага! Что вы ощущаете, глядя на него?
— Тревогу.
— Вы ощущаете, как ваше сознание борется с сознанием художника? Я рад. Отказ зрителя с первого взгляда принять произведение искусства свидетельствует о присущей последнему красоте и жизненной силе. Тут есть конфликт, через который необходимо пройти. Эта вещь как бы навязывается вам, не желая идти ни на какие уступки. И всё же ей невозможно не любоваться! Шедевры Возрождения редко вызывают подобные чувства. Они раскрывают вам навстречу объятия. Происходит же это потому, что мы знаем, о чём помышляли их создатели. Их переполняет личное, хорошо нам знакомое, а причуд и капризов у них, пожалуй, не меньше, чем у модной примадонны. Да, они даруют наслаждение. Но этот «Фавн» помимо наслаждения даёт нечто большее — тревожное ощущение близости. Вторгаясь со своей торжественной, яростной и почти враждебной новизной в наш внутренний мир, он в то же самое время становится для нас странно притягательным, он затрагивает в нашей натуре струны, о существовании которых мы почти не подозревали. Поддайтесь этому чужаку, который, по-видимому, столь многое знает о вас, мистер Денис. Поступив так, вы совершите удивительное открытие. Вы обретёте друга — одного из тех, кто никогда не меняется.
— Я пытаюсь, — ответил Денис. — Но мне трудно. Нас теперь воспитывают по-другому.
— Понимаю. Люди утратили искренность, веру в себя. Чтобы поддаваться, нужно ощущать уверенность в собственной силе. Наши современники этой уверенности лишены. Они не осмеливаются быть самими собою. И восполняют недостаток искренности избытком банальности. В отличие от героев Гомера{102}, они подавляют собственные страхи — подавляют всё, кроме претенциозной пустоты своего сознания, с которой им никак не удаётся справиться. Они склонны подолгу разглагольствовать о вещах незначащих — и в самое неподходящее для этого время, их кружит водоворот бессмысленных противопоставлений. Непредвзятости больше не существует. Почему она исчезла, мистер Денис? — внезапно спросил он. — И когда?
Вопрос застал Дениса врасплох.
— Я думаю, её постепенное исчезновение можно проследить до тех дней, о которых вы говорили, дней, когда художники начали демонстрировать миру свои настроения. А возможно и дальше. Некоторые римские авторы с большим удовольствием рассказывали о том, как идут их дела. В публике, естественно, взыграло любопытство. Немалая заслуга принадлежит и людям вроде Байрона. Он вечно лез ко всем со своей частной жизнью.
Денис умолк, ожидая отклика, но граф просто спросил:
— Не далее?
— Не знаю. Христианство научило нас интересоваться тем, что чувствует ближний. Все люди братья и так далее. Наверное, это тоже как-то повлияло. Кстати, и Сократ{103} тяготел к тому же. Всё это, конечно, снижает общий уровень. Там, где каждый умеет читать и писать, хорошему вкусу приходит конец. Хотя нет, я не совсем это имел в виду, — прибавил он, почувствовав, что как-то очень глупо выражает свои мысли.
— Ну-ну?
— Да собственно, всё так или иначе сказалось. Телеграф, светская хроника, мода на интервью, Америка, жёлтая пресса… множество семейных воспоминаний, дневников, автобиографий, придворные скандалы… Они воспитали публику нового образца, которой подробности личного толка интереснее знаний. Ей подавай сведения о том, как мы одеваемся, какие у нас доходы, привычки. Я имею в виду публику не пытливую, а назойливо любопытную…
— Каннибалов, — негромко сказал граф. — Похоже, человек уже не способен прожить, не питаясь жизненными соками другого человека. Люди существуют за счёт того, что пожирают нервные ткани и личные ощущения друг друга. Всё непременно должно быть общим. Я полагаю, так обретается ощущение солидарности в мире, где людям не достаёт отваги жить собственной жизнью. Горе тому, кто живёт особняком! Великое уже не внушает почтения. Его свергли с пьедестала, чтобы поколение пигмеев могло до него дотянуться, достоинство его захватано грязными руками. Похотливый зуд сделать всё управляемым — как его называют обычно? Да, демократией. Она свела на нет остроту антропоцентрического видения мира{104}, присущего древним грекам, чрезвычайно ценившим всё, что имело отчётливо человеческий характер. Люди научились видеть красоту в том, в этом, во всём — но понемножку, заметьте, понемножку! Им не понять, что расширяя возможности восприятия, они лишают его глубины. Они разбавляют своё вино. Питья становится больше. Но букет уже не тот.
Денису подумалось, что уж граф-то, во всяком случае, своё вино не разбавляет.
— Позвольте мне показать вам ещё пару вещей, — сказал старик.
Они прошлись по дому, разглядывая мраморные фрагменты, гравюры, инталии{105}, монеты, пока не появился слуга — чисто выбритый, довольно костистый старик, которого граф представил как Андреа, — объявивший, что чай подан. На душе у Дениса стало немного спокойнее; обольстительное очарование этого дома постепенно проникало в него. Ему пришло в голову, что граф отличается от людей искусства, которых он до сей поры знал: большей глубиной, большей правотою суждений. Денис уже решил, что ещё возвратится сюда, чтобы вновь вслушаться в этот мелодический голос, чтобы побольше узнать о жизни эллинов, до настоящего времени бывшей для него книгой за семью печатями. Никто ещё не разговаривал с ним так, как граф. Пожилые люди, снисходившие до того, чтобы его просвещать, неизменно избирали тон отчасти шутливый, полуизвиняющийся, но высокомерный. А граф принимал его всерьёз, приглашая прямо, по-мужски выражать свои мысли, это льстило Денису и наполняло его радостью, освобождая от скованности и врачуя уязвлённое самоуважение.
— Так ваша матушка желала бы видеть вас в Парламенте? — спросил граф. — Политика, как ни крути, занятие довольно грязное. А копаться в грязи, сохраняя руки чистыми, невозможно. У нас тут есть депутат, коммендаторе Морена — впрочем, разговор о нём не сулит ничего приятного. Позвольте мне задать вам вопрос, мистер Денис. Почему вообще существуют политики?
— Я полагаю, ответ состоит в том, что человечеству выгодно, чтобы кто-то его направлял.
— Во всяком случае, это выгодно тому, кто его направляет. Ваш достойный сэр Герберт Стрит прислал мне недавно охапку книг, посвящённых идеальному обществу будущего. Прогнозы социалистов — этого рода литература. Он, если вы знаете, помимо прочего принадлежит к числу тех, кто норовит сделать мир более совершенным. Меня его книги позабавили сильнее, чем я ожидал. Это ведь очень древнее заблуждение — полагать, что изменив форму правления, удастся изменить и человеческую природу. Да и в иных отношениях эти мечтатели попадают пальцем в небо. Ибо что нам на самом деле требуется, как не сколь возможно более простая общественная система? Вообразите себе состояние дел, при котором все в той или иной степени состоят на службе общества — какое, кстати, удобное слово! — совершая разного рода патриотические поступки. Кругом одни официальные лица, и каждый контролирует каждого! Это будет похуже испанской Инквизиции. В Толедо человек ещё мог выжить, объявив себя сторонником определённых жёстко установленных мнений, что доставляло ему разумную степень личной свободы. А при социализме его ничто не спасёт. Нестерпимый мир! Когда человек перестаёт размышлять, он становится идеалистом.
— Пожалуй, — не очень уверенно откликнулся Денис.
Его вдруг осенило, что может быть этим и объясняется, почему у него такой туман в голове, — отсутствием настоящего занятия или руководящего принципа. В общем-то он о таких вещах особенно не задумывался. Стать политиком — это был один из проектов, который он никогда не воспринимал всерьёз. Немного помолчав, он заметил: