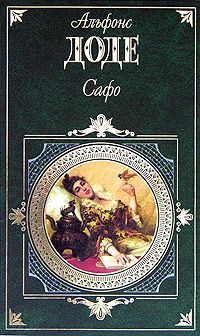Ознакомительная версия.
Боялся он одного: рядом с ней он выглядит таким старым, таким усталым, а она по-детски радуется тому, что его уже не занимает, радуется радостям совместной жизни, для него уже не существующим. Вот почему, составляя как-то вечером список вещей, которые им надо будет взять с собой в то место, куда он получит назначение, — мебель, обои, — он вдруг призадумался, и перо у него в руке дрогнуло: ему стало страшно, что он возвращается к своему устройству на Амстердамской, к неизбежному возрождению милых утех, которые для него были отравлены, загублены пятью годами жизни с любовницей, а жизнь эта была ни то ни се: не то брак законный, не то незаконный.
XIV
— Да, мой дорогой, умер нынче ночью на руках у Росы… Только что отнес его к чучельнику.
Композитор де Поттер, с которым Жан столкнулся при выходе из магазина на улице Бак, вцепился в него, стал изливать ему душу, что так не подходило к бесстрастному, жесткому выражению его лица — выражению лица делового человека, и рассказал о мученической кончине Гаденыша, которого сгубила парижская зима, доконали холода, несмотря на вату, на спиртовку, уже два месяца горевшую под его гнездышком, — словом, уход за ним был, как за недоноском. Тем не менее ему все время было холодно, и вот минувшей ночью, когда все собрались вокруг него, в последний раз по всему его телу — от головы до хвоста — пробежала дрожь, и он скончался как истинный христианин благодаря тому, что мамаша Пилар не пожалела святой воды, чтобы окропить его чешуйчатую кожу, через которую, как сквозь призму, были видны приливы и отливы слабеющих жизненных сил, — мамаша Пилар кропила его и, закатив глаза под лоб, приговаривала: «Прости ему, господи, все его перегреченья!»
— Смешно, конечно, а все-таки у меня тяжело на сердце, особенно как подумаю о бедной Росе — я ее оставил всю в слезах… К счастью, с ней Фанни…
— Фанни?..
— Да. Мы с ней давным-давно не видались… А сегодня утром она приехала как раз в разгар семейного горя, и эта добрая душа осталась утешать подругу.
Не заметив, как поразили Жана его слова, он спросил:
— Значит, все кончено? Вы уже не вместе?.. А помните наш разговор на Энгьенском озере? Стало быть, вы все-таки слушаетесь советов…
В его одобрении прозвучала колючая нотка зависти.
При мысли, что Фанни вернулась к Росарии, Госсен наморщил лоб от почти физического ощущения боли, но тут же мысленно пристыдил себя за эту слабость: в конце концов, у него нет никаких прав на эту женщину, и никакой ответственности он за нее не несет.
У дома на Бонской улице, куда они свернули, на старинной улице прежнего аристократического Парижа, де Поттер остановился. Здесь он жил или, вернее, делал вид, что живет, — ради приличия, для отвода глаз: на самом деле проводил все время на авеню Вилье или в Энгьене, а дома изредка появлялся, чтобы его жена и ребенок не казались такими уж заброшенными.
Жан, в сущности, простился с де Поттером и хотел идти своей дорогой, но тот задержал его руку в своих длинных руках с затвердевшими от ударов по клавиатуре пальцами и без всякого стеснения, с видом человека, который давно перестал стыдиться своего порока, сказал:
— Окажите мне услугу: поднимемтесь ко мне! Сегодня я должен обедать у жены, но не могу же я оставить бедную Росу, когда она в таком отчаянии!.. Вы для меня послужите предлогом и избавите от неприятного объяснения.
Кабинет композитора в роскошной и чопорной буржуазной квартире на третьем этаже производил впечатление нежилой, нерабочей комнаты. Что-то уж слишком тут было опрятно: ни малейшею беспорядка, ни намека на ту легкую лихорадку деятельности, которая обычно передается и вещам. На письменном столе ни одной книги и ни одного листка бумаги — стол величественно загромождала огромная бронзовая пустая чернильница, сверкавшая, как на витрине. На фортепьяно, которое напоминало старинный клавесин и за которым создавались первые произведения де Поттера, не было видно нот. В предвечернем сумраке комнаты белел мраморный бюст молодой женщины с тонкими чертами лица и мягким выражением, и от его присутствия еще холоднее казался нетопленый, задернутый пологом камин, и еще унылей глядели стены, увешанные золотыми венками, лентами, медалями, фотографиями — всей этой горделивой и кичливой ветошью, которую хозяин великодушно оставил жене в виде возмещения и которую она берегла как украшение могилы ее счастья.
Не успели они войти, как дверь в кабинет снова отворилась, и на пороге показалась г-жа де Поттер.
— Это ты, Гюстав?
Она была уверена, что он один в комнате, но при виде незнакомого человека явно смутилась. Красивая, изящная, одетая к лицу, с изысканным вкусом, она казалась благороднее своего изображения: мрамор воспроизвел нежность ее черт, но не передал того мужественного и решительного выражения, какое было у нее в жизни. В обществе о ней говорили по-разному. Одни осуждали ее за то, что она терпит неприкрытое пренебрежение мужа, его привязанность, всем известную, прочную, другие восхищались безмолвной ее покорностью. И все сходились на том, что это натура уравновешенная, что она больше всего на свете ценит покой, что в ее вдовстве ей служит достаточным утешением ласковый, красивый ребенок, а ее самолюбие тешит то, что она носит фамилию великого человека.
Но в то время как композитор представлял своего знакомого и нес околесицу, только чтобы избавиться от обеда в кругу семьи, Госсен по тому, как вдруг задрожало ее молодое лицо, по неподвижности ее невидящего и уже ничего не воспринимающего взгляда, как бы поглощенного душевной болью, догадался, что под светскими условностями заживо погребено большое горе. Она сделала вид, что поверила россказням мужа, — она только тихим голосом произнесла:
— Раймон будет плакать — я ему обещала, что мы будем обедать у его кроватки.
— Как он себя чувствует? — нетерпеливо и рассеянно спросил де Поттер.
— Лучше, но кашель еще не прошел… Ты не зайдешь к нему?
Де Поттер пробормотал, притворяясь, что ищет что-то в кабинете:
— Только не сейчас… Я очень спешу… В шесть часов у меня свидание в клубе…
Он боялся остаться с ней наедине.
— Ну, прощай! — сказала молодая женщина, внезапно успокоившись и уняв дрожь лица, теперь уже гладкого, как вода, по которой только что расходились круги из-за того, что в нее бросили камень. Она простилась и сейчас же ушла.
— Бежим!..
Облегченно вздохнув, де Поттер повел Госсена к выходу, и Госсен раздумчиво смотрел на этого шедшего впереди и державшегося прямо человека в безукоризненно сидевшем на нем длинном и узком, английского покроя, пальто, на этого влюбленного безумца, который так горевал, когда нес к чучельнику хамелеона своей возлюбленной и не зашел поцеловать больного ребенка.
— Это вина тех, кто меня женил, мой дорогой, — как бы отвечая мыслям своего приятеля, сказал композитор. — Хорошую услугу оказали они мне и этой несчастной женщине!.. Надо быть круглым дураком, чтобы пытаться сделать из меня семьянина! Я был любовником Росы, был и остался, и останусь до тех пор, пока кто-нибудь из нас двоих не прикажет долго жить… Если порок нашел самый подходящий момент, чтобы проникнуть к вам в душу, если он угнездился, то разве от него когда-нибудь освободишься?.. Да взять хотя бы вас: вы можете ручаться, что если б Фанни захотела…
Подозвав ехавшего порожняком извозчика, он влез в экипаж и крикнул Госсену:
— Кстати, о Фанни, — слыхали новость?.. Фламана помиловали и выпустили из Маза… По ходатайству Дешелета… Хороший был человек Дешелет! Он и после смерти сделал доброе дело.
Госсен стоял неподвижно, но, не отдавая себе отчета, почему он так взволнован, готов был пуститься вдогонку и ухватить за колеса экипаж, во весь опор мчавшийся по сумрачной улице, где только еще зажигался газ. «Фламана помиловали… выпустили из Маза…» — шепотом повторял он, и теперь ему стало понятно, почему вот уже несколько дней Фанни молчала, почему оборвались ее жалобы, — их заглушили ласки утешителя, а ведь первая мысль этого человечишки, как только он вышел на волю, была, конечно, о ней.
Госсен вспомнил любовные письма, которые тот посылал ей из тюрьмы, то упорство, с каким Фанни защищала только его одного, так легко отрекшись от других, и вот, вместо того чтобы обрадоваться случаю, который избавлял его от всяких волнений, от угрызений совести, — так было бы логично, — он затосковал, и эта неотвязная тоска, приведя его в состояние лихорадочного возбуждения, долго не давала ему уснуть… Что же это такое? Ведь он разлюбил Фанни. Он беспокоился за судьбу своих писем, оставшихся в ее руках: кто ее знает, а вдруг она прочтет их Фламану и под его дурным влиянием воспользуется ими для того, чтобы нарушить покой и счастье его, Госсена?
Было ли это истинной причиной его тревоги, или же он бессознательно мучился совсем не из-за того, но только забота о письмах толкнула его на неосторожный шаг: он решился поехать в Шавиль, решился на то, чего до сих пор так старательно избегал. Но кому он мог дать столь интимное и щекотливое поручение?.. Февральским утром он с ясной головой и легким сердцем сел на десятичасовой поезд; единственное, чего он боялся, это поцеловать замок и не застать Фанни, которая, может быть, уже умчалась к своему фальшивомонетчику.
Ознакомительная версия.